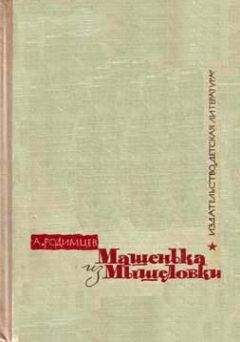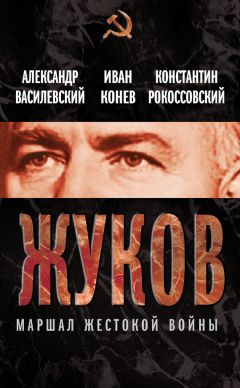Геннадий Сазонов - Открыватели
— Да я… я же… — залепетал он. — На крольчиху, на венскую…
Купили мы с ним крольчиху голубую, как дымок. Какая это была радость! Дед щерит темную пасть, чуть не ходит вприсядку, светится именинным торжеством.
— Живем, брат! — хлопает он меня по плечу и хохочет лешим. — Знай наших!
Кролики растут и дохнут, мы не спим по ночам, худеем от забот, на четвереньках ползаем перед клетками, а крольчата-малышня вырастают в уши и длинные лошадиные ноги. Для кролей мы три дня рыли землянку, откуда начинались глубокие норы и подземные ходы. Сколько кроликов у нас было, я не знаю, но дед говорил, что, по предположительным подсчетам, их «околь мильену голов».
— Ну их к черту, — взревел дед, когда они очистили клеверное поле. — Сожрут они нас вовсе, одни волосья останутся.
Однажды дед приоделся, причесался и обулся в новые галоши. А когда он развесил на груди свои Георгии и задрал вверх бороденку, я вздрогнул — произойдет что-то нежданное и страшное.
— Куда, деда, а?
Дед молча махнул рукой и хмыкнул носом. Уходя, он тихонько притворил дверь, а после, идя по улице, несколько раз обернулся.
Он вернулся уже к вечеру, измятый и вялый. Покачивался, как тростинка на ветру. Долго он копался в карманах, шарил там, наконец вытащил красного прозрачного петуха на деревянной ножке, собрал с него табачные крошки, отодрал ниточки и протянул мне.
— Петя-Петя-Петушок, — заулыбался дед, засветился морщинками и ласково прищурил глазки, — масляна головушка. Соси, Петька, это тебе правление колхоза подарило!
— Отчего так? — не понял я деда, принимая подкрашенную сосульку.
— Колхоз, стало быть, принял! — с торжеством в голосе провозгласил дед и чуть не сковырнулся с лайки.
— Кого принял? — испугался я. — Кого?
— Муку нашу. Кроликов, во! — и развалился дед за столом.
— Не дам кролей! — закричал я и вцепился деду в рукав. — Не твои кролики!
— Я тебя раскулачиваю! — приподнялся дед над столом, как в президиуме. — И сим хочу просветить тебя, твою темноту, ибо около собственности никогда не рождалося сознания. Видал, какими словами я разжился, а то вовек не смог бы так сплести.
— Не дам! — завизжал я от бессилия, от жалости, от жадности, от того, что терял первое свое приобретение. — Не дам!
— А, ты, значит, капиталист! — взъярился дед.
— Не трогай! — вопил я.
— В чем суть, Петяня? — задымил цигаркой дедок. — Если это дело нужное, выгодное, то ведь размах требуется, да. Значит, колхоз ферму строит. Я в ней — заведующий.
На отчетном собрании в ноябре председатель колхоза поясно поклонился деду, сказал:
— Спасибо тебе, Захар Васильич, за службу твою, за работу. Колхоз получил двадцать тысяч доходу только за шкурки, не считая тушек. И за приумножение колхозного добра премирует тебя правление именными часами.
Затрясся дед, пробила его слеза. Оглушили его аплодисменты и крики собрания. Ослепший, он поднялся на сцену, несгибающимися руками, раскрытыми ладонями принял часы-луковицу и долго хлопал ртом, не мог он сказать слова. А потом сказал:
— Не мне то спасибо говорить надо, а Петьке моему. То ему в голову светлая мысля упала — сдать кролей в колхоз. Растет он у меня страшно сознательный, как укор мне, старому лопуху…
Будто давно и недавно то было. А сейчас мы медленно пробираемся к правлению по улице Абдуловке.
Навстречу нам, близоруко щурясь на солнце, поблескивая стеклами очков, двигается председатель сельсовета Григорий Александрович Петров.
Глава шестая
Дед самолично понес представлять меня Советской власти. Он приказал матери «завернуть дитю в праздничную одежку. Да без бантиков… без фигли-мигли, чтобы мужик виделся, а не какая-нибудь насекомая». Взял — это так рассказывали мне — взял сверток бережно, на вытянутые руки и пошел, высоко поднимая: ноги.
Петров сидел за столом в задумчивости, а стол весь в кумаче, среди разных бумажек. Здесь же совместно, с ведомостями раскинуты были подковы, гвоздочки, изоляторы, медная проволока и запчасти к сеялке. Петров председательствовал первый год, исподволь входил в крестьянскую жизнь и никак не мог понять, почему мужики требуют от него каких-то бумаг, расписок.
— За то время, пока я с вами собрания провожу, я бы мог еще один детектор собрать. Ну, погоди! — грозился кому-то Петров. — Сделаю в селе радио. Будете вы, граждане, весь мир слушать.
Но поскольку Петров был изобретатель-самоучка и делал все своими руками, не хватало ему времени на радио. То трактор нужно с места сдвинуть, то движок запустить, то сеялку подремонтировать.
— Вот, — положил меня дед на бумажонки. — Гляди… населению прибавка!
— Ух ты, — Петров осторожно отодвинулся, обошел вокруг стола, отогнул одеяло и порычал. Потом почмокал губами, погукал — из свертка ни звука.
— Ты на него не рычи, — задымил цигаркой дедок, — он мужик зловредный, характерный. Видишь, как он зенки вылупил, сейчас пасть разует и пугать зачнет. Ты давай его в книгу, значит, имя его… отчество… запиши да бумагу выправляй, чтоб он имя свое имел.
Пока Петров выискивал среди бумаг и железок книгу, я — это так рассказывают — успел обмочить какие-то ведомости. Они с дедом долго возились, пыхтели и стукались лбами, пока вынимали меня из свертка.
Петров раскладывал на полу бумажки, а дед шлепал меня казенным пресс-папье. Потом Петров, развеселившись, приложил ко мне печать — «чтоб за границу не скрылся» — и оторвал клок от плаката для написания справки. Бумага была гладкая, толстая, вощеная. На ее плакатной стороне нарисован кулак или буржуй раздутый и пузатый, и за горло этого буржуя держала могучая рабочая рука. Деду это почему-то понравилось — такая необычная изнанка, обложка будет у справки, «будто гербовая тебе бумага». Петров очистил вокруг себя стол, макнул ручкой в банку-чернильницу и вывел: «Справка…»
— Справка, — произнес он вслух. — А справка ли?!
— Метрики, — выдохнул, приподнялся дед. — Справка тогда дается, ежели я у тебя чего брал, а потом отдал, или ты справку даешь, чтобы кто дерево в лесу свалил. Здесь я тебе, Григорий, дитю принес, — сурово сказал дед, — тебе я его кажу фактом, но не доверяю. Нет… не могет она, бумага эта, справкой называться.
— Погоди! — махнул рукой председатель. Кто-то пытался зайти в кабинет. — Занятый я… посиди… Так вот, Захар Васильевич, сейчас я в район звякну.
Крутанул, еще раз крутанул он ручку телефона и начал кричать в трубку. Долго спрашивал, кивал, спорил. Наконец угомонился.
— Свидетельство, — сообщил он деду. — Свидетельством называется, ясно! Нужно, чтоб при сем отец-мать были, Захар Васильич!