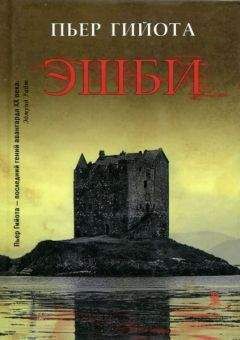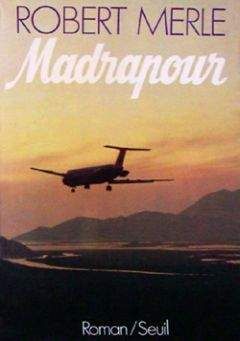Жан-Пьер Шаброль - Миллионы, миллионы японцев…
Мото-сан — добрая душа, но цель, которую она преследует, портит все. В повсюду рекламируемом ею «новом Бальзаке, только еще моложе» она видит прекрасный объект для капиталовложения. Правда, ею движет лишь мечта, иллюзия о сказочном доходе. Извлечь его она не в силах. Нет у нее ни опыта, ни мертвой хватки. Жертва финансового прожектерства, она недаром напоминала Шабролю наивную козочку господина Сегена. Волки из «Космических услуг» уже терзают свою добычу. Вывеска «импорт-экспорт» — фиговый листок, маскирующий логово профессиональных убийц, мастеров заплечных дел. Их суть пародирована автором с холодной яростью и разящим сарказмом. Он озорно «припечатал» их кличками: Волкодав, Тигровый Зуб, Тухлое Яйцо. «При мысли, что ты принадлежишь к одному с ними классу животных, становится не по себе». А вот и шеф всех этих Держиморд — мэтр Абе. Его холодные глаза, «могут быть жестокими, похотливыми… лукавыми, раболепными, только не нежными или сердечными. В них нет ни искорки человечности». Фашист Абе, приставленный переводчиком к Шабролю, автору «Последнего патрона», — это ли не ключ к разгадке японских злоключений героя? Общение с ним и его командой сулило лишь детективную развязку. И если «растерявшийся человек» еще гадал, зачем он приехал в Японию, то почему ему надо из нее бежать, он знал наверняка. Заколдованное кольцо сжималось вокруг него, мэтр Абе открыто угрожал подопечному, силы были не равны. Наконец, самолет вырвал героя из Японии, но удалось ли ему вырваться вот так же просто из «заколдованного круга»? Ведь Король Покрышек есть и во Франции. А мэтр Абе? Что по сути в нем специфически японского? Абе служил во Франции, Бельгии, Западной Германии, Испании, Италии… и готов впредь служить всем, у кого в чести «искусство» укорачивать человеческую жизнь. Нет, заколдованные кольца опоясывают не одну Японию.
«Растерявшийся человек» может унести ноги от тех или иных конкретных преследователей, может перенестись из одного края «свободного мира» в другой, но вырваться из плена буржуазной действительности таким путем ему не дано.
Личностная мотивировка отъезда интимна, а потому стыдливо скрыта как бы меж строк. И лишь иногда, прервав каскадную запись бесед, встреч, сценок, споров, зарисовок увиденного, Шаброль с какой-то щемящей болью просто говорит о том, что у него на душе: «Токио очень грустный город, самый грустный на свете… я не ощущаю никакой сердечности за этим парадом вежливости и церемонности, а эти улыбки — тысячами, миллионами — эти стереотипные улыбки леденят мне душу…» Быть может, одно из возможных истолкований названия книги таится в этом признании. Автору хотелось бы встречаться с разными людьми, но без деловых целей, к кому-то привязаться, а не разыгрывать роль «нового Бальзака, только еще моложе», подружиться с душевными людьми, а не советоваться с Чангом о подвохах мэтра Абе; ему хотелось бы любить всех японцев, но глаза видели много такого, от чего становилось еще тоскливее. Торговая суета вокруг сценария отняла у него радость общения с миллионами простых японцев, которым отвратительны и ненавистны короли. Покрышек или Бензина и их звероподобные прихвостни. Моральная ответственность перед пригласившей его на свои деньги Мото-сан побуждала его окунуться в трясину двусмысленной неопределенности, присущей деловому миру, миру фальши, пустоты и обмана. Ощущение одиночества и даже опустошенности нарастает. «Только здесь, в Японии, я понял как следует смысл французской поговорки „Скучает, как горбушка хлеба за буфетом“. Я не могу найти себе места, я, который никогда не тяготился одиночеством… Пойти в соседнее патинко пошвырять шарики, что ли…» Ирония горька, чуть ли не безысходна. Грусть-тоска однажды столь невыносимо одолела художника, что вылилась стихийно на вечере у пяти гейш в невиданное представление: «Я вообразил, что вот явился Брассенс, что вижу его только я и это избавляет меня от необходимости представлять его присутствующим. Я встречаю его у дверей, пожимаю руку, приглашаю сесть… А потом я проводил его до дверей, попрощался, сел, поджав ноги, на прежнее место… Я чувствовал себя Другим человеком». Сцена эта — одна из наиболее выразительных в художественном отношении — кульминация чувства одиночества и одновременно исходная точка преодоления его. Личностное самоопределение и творческая фантазия, воображение, сдавленное деловой атмосферой Токио, внезапно прорвались. Проявилась воля к духовному освоению мира и противоборству враждебным художнику обстоятельствам. И вот уже с упорством верующего он стремится открыть японской детворе прелесть французской речи и всеобщий смысл поэзии. «И тополя, от реки до самых небес тополя, — это все полнота бытия, это паши с тобой чудеса, это в нас чудеса, потому что и ты и я на одной земле. Это наша земля». Это стихи Жоржа Юне из сборника, изданного во Франции подпольно в 1943 году, когда юный Шаброль сражался с оружием в руках против фашизма.
Десять лет спустя Шаброль снова вступил в схватку. Его противник — колониализм и расизм, оружие — слово, образ. Его ранний роман — «Последний патрон» (1953) рождается наперекор традициям колониального романа Поля Адана и Луи Бертрана. После мучительных раздумий Кристиан Бессет — герой романа — узрел скрытую за ложью газет простую истину: война во Вьетнаме ведется в интересах тех же господ, которые отдали Францию на поругание Гитлеру.
«Живая созидательная энергия нации» — в рабочем классе, утверждал Шаброль в романе «Гиблая слобода» (1955). Буржуазия стремится разобщить рабочих, сломить их сопротивляемость — для этого все средства хороши. Но в ответ у рабочих крепнет чувство солидарности и взаимовыручка.
В «Гиблой слободе» Шаброль реалистически воплотил свою гуманистическую веру в человека: надо любить человека, ибо каждый человек несет в себе целый мир. Художник отстоял эту веру, пережив глубокий кризис во второй половине 50-х годов. Истоки и характер этого кризиса обнажены в его романах «Лишний» (1958), «Жертва Марса» (1959) — романах, посвященных минувшей войне. Сомнение в победе разумных усилий человечества, отчетливо обнажившееся в «Лишнем», сказалось и в «Жертвах Марса», где реализм, характерный для «Гиблой слободы» и «Последнего патрона», вытесняется натуралистической схематизацией человека, а историзм уступает место фатализму.
Художник вырвался из сети абстрактно-метафизических суждений о человеке вообще, о тщете исторического действия, создав сказание-реквием о восстании камизаров — своих земляков севеннцев — в 1702–1704 годах. В «Божьих безумцах» (1961) — так называется эта героическая сага — художник трезво смотрит на историю, которую творят сами люди.