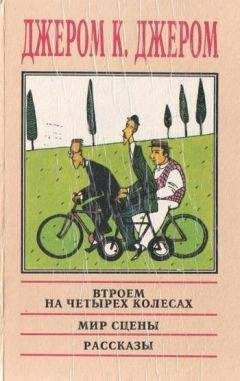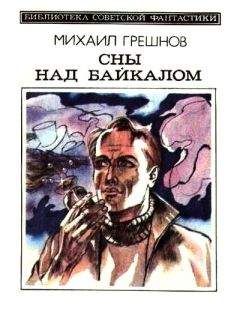Дмитрий Стахеев - За Байкалом и на Амуре. Путевые картины
— Да, не весело.
— Истинно так. Это томление даже душевный недуг производит.
Мы опять помолчали.
— Вы куда-то уезжали? — спросил я.
— С требой отлучался. Верст за шестьдесят расстояния. Женщина там изнемогала, теперь уже преставилась…
Батюшка вздохнул и замолчал.
— Да не угодно ли ко мне? — вдруг, оживляясь, сказал он.
Я поблагодарил.
— Что ж! Покорнейше прошу. Побеседуем…
Мы пошли.
Для священника, близ церкви, был построен небольшой домик; у окон этого домика были ставни, что составляло редкость среди избушек, но заплота и двора не было; заметны были около дома только следы плетня, который, вероятно, давно был израсходован на топку, потому что оказался ненужным, да и держаться не мог, — свиньи чесали об него бока и сваливали всю изгородь. В прихожей валялась солома и на ней лежал теленок. В зальце стоял старенький, с клочками оборванного ситцу, диван и дубовый некрашеный стол; на бревенчатой стене висело небольшое зеркальце и около него фотографический портрет священника с супругой, сидящих рядом, держа друг друга за руку.
— Это мое изображение, с матушкой, — пояснил священник.
Я подошел поближе к портрету.
— На вечную любовь, так сказать, — добавил он.
— Хорошая, говорю, фотография.
— Да-с. Вот скажите, до чего доведено. Удивления достойно и представьте, как быстро производится, всего минут несколько. Искусно, очень искусно…
Батюшка подошел к портрету и начал внимательно рассматривать, как будто видел его в первый раз.
— Где это вы снимали? — спросил я.
— В губернском городе Иркутске. Там господин фотограф весьма изобретательный человек и, как рассказывают, якобы в настоящее время он сугубо увеличил свои капиталы…
Мы сели и помолчали.
Босоногая оборванная девчонка, в грязном сарафане, вошла в комнату и подала нам чай. Батюшка начал рассказывать о трудностях амурской жизни и об ужасной, подавляющей тоске. Я заговорил было о школе, упомянув между прочим о пьяном фельдшере.
— Школа, вы изволите говорить. Какая же может быть тут школа, — возьмите во внимание. Я готов с великим усердием, но поверьте, чистосердечно вам говорю, нет никакой возможности устроить что-либо подобное.
— Отчего же?
— Неразвитие, великое неразвитие. Возьмите во внимание, я говорю например: Закон Божий, а мне ответствуют — пусть мальчишка коров пасет… Окаменение какое-то!
На столе явилась закуска. Пришел старшой и, помолившись, подошел под благословение.
— С наступающим праздником!
— Садитесь, покорно прошу! — пригласил священник.
Старшой сел, сложил руки и начал перебирать пальцами.
— Что ваш начальник? Здравствует ли?
— Ничего-с, теперь, слег; давеча на работе раскричался, — лежит теперь…
— Строгий уж очень. Так сказать, даже не по чину строгий, — с улыбкой заметил батюшка.
— Это точно что…
Попадья, шумя новым, яркого цвета, ситцевым платьем, вошла в комнату и поставила на стол тарелку с вареной рыбой. Батюшка отрекомендовал меня и потом обратился с вопросом, не был ли я на заимке у барина-пахаря. Я отвечал — что не был.
— Посмотреть стоит, — назидательно… Только знаете, любостяжателен он очень.
— Отчего же это?
— Не ведаю. По всей вероятности, сребролюбие овладело его душой.
— Да, скуп он, это точно, — подтвердил старшой.
— Ему бы, знаете, по всей справедливости, надлежало там у себя построить церковь, вот и господин старшой так же думает… соответственно…
— Церковь, известно, храм Божий, — отчего не построить?
Батюшка воодушевился и встал на ноги, приложив руку к сердцу.
— Я вам изъясню вот что: господин Нелепов, пахарь-то наш, в вере слаб и потому у них эти козни с господином сотенным командиром…
— Да вот я им рассказывал, — перебил старшой.
— Враждуют, истинно что враждуют, козни такие друг другу строят, что только Господи помилуй.
Священник подошел к столу.
— Приступите, — пригласил он, показывая рукой на закуску.
Мы выпили.
— Вот рыбки моего уженья. Я, как и апостолы Христовы, тоже рыболовствую…
Разговор оживился. Опять заговорили о школе. Священник доказывал, что ему невозможно принять какое-либо участие в обучении мальчиков, потому что у него слишком большая паства, что он один на пять станиц, и закончил свои доказательства следующими словами.
— Да и то сказать, возьмите во внимание, из-за чего же я, так сказать, буду распинаться? Трудись, трудись, а поощрения нет, все только на одном жалованье и сидишь…
— Оно точно… трудновато, — поддакнул старшой.
Попадья, молчавшая во все время, подошла к столу, поправила тарелки и, обращаясь к мужу, сказала:
— А ты скажи-ко вот им, какие у нас доходы-то…
— Ах, матушка! Позвольте, я изложу все сам, с достодолжною подробностью.
Попадья не обратила внимания на слова мужа.
— Нет, я говорю, милостивый государь, — обратилась она ко мне, — то есть поверите ли, никогда, никто из казаков, то есть вот какая есть крошка хлеба…
И матушка показала на пальце крошку.
В таком тоне долго продолжался разговор. Но прошло с полчаса и все разговоры, за отсутствием материалов, прекратились. Батюшка сидел у стола и, грустно опустив голову, напевал «Бессеменного зачатия». Старшой, достаточно упитавшийся спиртом, клевал носом вперед и, держа в руках пустую рюмку, постукивал по ней ногтем. Попадья сидела у окна и смотрела на темное звездное небо, находясь, вероятно, под впечатлением недавнего разговора о недостатке доходов. Сальная свеча едва пиликала, оплывая на весь стол. Я перелистывал книжку «Странника» 1860 года, единственную книжку во всем доме.
Расстались мы холодно, потому что батюшка был в мрачном расположении духа…
На следующий день однообразие станичной жизни нарушилось: купец с товарами причалил к берегу.
Быстро собралась около лодки толпа и пошла торговля. Шум, крик, говор долго слышались на берегу. Часа через два, через три, все, у кого были деньги, понакупились и около лодки остались только зеваки, да бабы, желавшие променять поросят и яйца на платки. Казак, с трубкой в зубах, стоял впереди всех и, лениво поплевывая на сторону, разговаривал с купцом.
— Не на что, господин торгующий купец, покупать теперь, и надо бы мне на рубаху кумачу, да не на что… Лоньским годом мы с тобой, кажись, соболя меняли?
— Може статься, — небрежно отвечал купец.
— Так ты мне по знакомству в долг не отпустишь ли? — спросил казак.
Купец мотнул отрицательно головой и, развертывая яркого цвета ситец, нахваливал его казачке, грустно смотревшей в плутоватые глаза торговца.