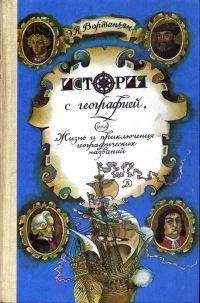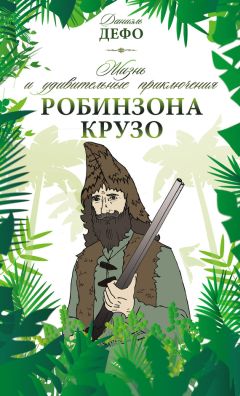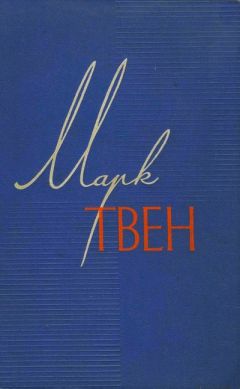Луи Ружемон - Приключения Ружемона
В нескольких шагах от колодца я построил большой деревянный желоб, который у меня постоянно был наполнен водой и который ежедневно посещался самыми необычайными стаями разноперых птиц, начиная с эму и кончая подобием наших милых воробушков. Громадные змеи, от 10 до 15 футов длиной, часто отгоняли от желоба злополучных кенгуру, и порой вокруг этого желоба жаждущая толпа животных была так велика, что некоторым из несчастных приходилось ожидать по несколько часов очереди утолить свою мучительную жажду, а многие умирали, даже не дождавшись очереди. Я помню, что это обстоятельство и тогда уже поразило меня как нечто ужасное, тем более, что я почти постоянно находился в такое время у желоба и отгонял тех птиц, гадов и животных, которые успели напиться, заставляя их уступать место ожидавшим, и всякий раз, когда замечал, что в дальних рядах кто-нибудь окончательно изнемогал от жажды, спешил подставлять мех с водой для поддержания угасавшей жизни. Обыкновенно эти посетители моего желоба меня совершенно не замечали, но точно инстинктивно сознавали, что я их общий благодетель. Конечно, мне приходилось плотно накрывать отверстие моего колодца, иначе вся поверхность воды была бы завалена скелетами различных животных и птиц.
Однако меня, быть может, спросят, почему я так заботился о всех четвероногих, крылатых и пресмыкающихся, снабжая их водой в то время, когда вода являлась таким ценным продуктом; но на это весьма легко ответить: если бы я допустил подохнуть всем этим животным, то я и все мои чернокожие, оставшись без пищи, принуждены были бы умереть от голода, — а это было бы, пожалуй, даже хуже смерти от жажды. Самыми неблагодарными созданиями оказались, на мой взгляд, змеи. Нередко они с умыслом залегали в самый желоб, сворачивались в нем клубом и не подпускали к нему ни птиц, ни других животных. Я всегда знал, когда что-либо подобное случалось, так как около желоба подымалось страшное волнение и крики, издаваемые возмущенными и негодующими пернатыми. Тогда я спешил к месту происшествия и изгонял непрошеных гостей самодельными деревянными вилами. Однако, я никогда не убивал зачинщиков всей этой сумятицы, так как и без того уже они околевали во множестве. Не только животные, птицы и пресмыкающиеся умирали от жажды, но даже и самые кусты, деревья и травы засыхали, что являлось новой не малой бедой, а именно: причиной страшных степных и лесных пожаров. Заговорив о лесных пожарах, я должен сказать, что нам часто приходилось видеть, как огонь свирепствовал в наших горах, иногда по целым неделям, опустошая пространства в несколько десятков миль. Что же касается нас и нашего селенья, то мы ограждали себя, оцепив свое жилище и всю нашу местность точно кольцом совершенно оголенного и нами самими выжженного пространства. Это, конечно, спасло нас от пожаров, но зато мы порой положительно задыхались от нестерпимой жары, приносимой палящим дыханием знойного ветра, что, в связи с нещадно пекущим солнцем, сжигавшим землю и раскалявшим воздух, — и скудостью воды, сделало жизнь здесь совершенно невыносимой.
Быть может, эти климатические условия немало влияли на бедного Бруно, о котором я теперь хочу сказать несколько слов. К этому времени он стал заметно слабеть, казался каким-то унылым; впрочем, с самой смерти Гибсона он уже был не тот, что прежде, хотя я по-прежнему продолжал пользоваться его удивительной смышленостью для того, чтобы удивлять ею чернокожих.
Одной из моих обычных привычек было запрятать в присутствии Бруно так, чтобы он видел, какой-нибудь предмет, вроде моего томагавка, где-нибудь вблизи дома, и затем отправиться куда-нибудь в лес или в горы в сопровождении моих чернокожих. Пройдя несколько миль от дома, я вдруг делал вид, что забыл дома тот или другой предмет, и приказывал Бруно отправиться за ним и принести мне его, сопровождая свое приказание различным таинственным нашептыванием. Умное доброе животное всегда понимало, что от него требовали, и через час-другой возвращалось ко мне и клало к моим ногам в присутствии всех туземцев требуемый предмет, после чего с видом наивысшего равнодушия принимало лестные о себе отзывы и похвалы моих чернокожих спутников. Бруно был действительно чрезвычайно умная собака; так, например он никогда не забывал, что нужно делать всякий раз, когда мы встречали на своем пути новое племя туземцев, с которыми мы еще не успели познакомиться. Он каждый раз вопросительно поглядывал на меня в этих случаях и как только видел, что я начинаю проделывать свои акробатические штуки, тотчас без всякого понуждения с моей стороны проделывал весь свой репертуар кувырканий, прыжков, лая и катанья кубарем через голову, с удивительной энергией и одушевлением.
Его милое, ласковое обхождение и его привязанность ко мне сделали Бруно особенно дорогим для меня существом, так что я не мог без ужаса подумать о том, чтобы с ним что-нибудь случилось. Однажды, когда мы проходили голой бесплодной песчаной пустыней, Бруно и я жестоко страдали от сыпучего горячего песка, забиравшегося нам между пальцев, — и мой бедный пес протестовал единственным возможным для него способом, т. е. протяжным, жалобным воем; судя по тому, как осторожно и боязливо он переставлял свои лапы, было ясно, что вскоре бедное животное будет уже совершенно не в состоянии идти за мною дальше. Чтобы этого не случилось, я сделал ему мокасины на все четыре лапы из шкуры кенгуру и затем надел их ему. С тех пор он постоянно носил их, когда нам приходилось проходить по такой же песчаной и открытой местности и со временем так привык к своей обуви, что, как только мы подходили к пескам, уже подбегал ко мне и протягивал ко мне свои лапы, изъявляя тем свое желание одеть обувь.
За последнее время старость начинала заметно угнетать его; он уже становился тяжел на ноги и теперь редко отправлялся со мной на охоту, а больше только спал или дремал целыми днями. Некогда он был бесподобный охотник на кенгуру и с особым увлечением предавался этой охоте. Он загонял самых громадных кенгуру под какое-нибудь большое дерево и, если только это громадное животное пыталось уйти от него, хватал его за хвост и принуждал снова оставаться в еще худшем состоянии, чем доселе, и держал его до тех пор, пока я не подоспевал и не убивал его добычу. Конечно, бедному Бруно не раз попадало за его смелость, его кусали и кенгуру, и змеи, и ядовитые, и безвредные, — но все это, по-видимому, проходило у него бесследно. Но Бруно уже и тогда, когда я впервые получил его, как будто примирился с мыслью, что он проживет недолго. За последнее время он стал весьма равнодушно относиться ко мне и к Ямбе, неохотно двигался с места, вяло ел; в таком положении он прожил более года. Однажды утром, войдя во вторую мою хижинку, которая по старой памяти называлась у нас хижиной Гибсона, хотя бедняга никогда в ней не жил, я к неописанному ужасу своему увидел моего Бруно, вытянувшимся и окоченевшим на подстилке из шкуры кенгуру, пожертвованной ему покойным Гибсоном. Несмотря на то, что я давно уже готовился к этому — я положительно поражен был горем при виде бездыханного трупа моего верного товарища. Мне кажется, что сам я не сознавал, насколько он мне был дорог и близок до того момента, пока не утратил его навсегда. И вот, пока я стоял над ним и слезы градом катились по моим щекам, в памяти моей воскресали одни за другими все странные события моей жизни, в которых бедный Бруно неизменно всегда принимал самое деятельное участие. Он был со мной и на разбившемся судне, и на пустынном острове, и во всех моих странствованиях, и не раз выводил меня из беды. А его различные забавные причуды, привычки и ухватки доставляли мне всегда бесконечное удовольствие и развлечение. И вот его не стало! Хотя я давно ожидал этого неизбежного удара, тем не менее горе мое было очень глубоко. Ямба тоже ужасно горевала о нем и оплакивала его смерть, потому что и она так же сильно привязалась к Бруно, как и он к ней. Я закатал его в особого рода глину и затем обернул древесной корой, как это обыкновенно делают со своими покойниками туземцы, затем положил его на самородную полку или выступ в одной из наших горных пещер, где бы дикие собаки не могли добраться до него и где уже лежало тело, или вернее, мумия покойного Гибсона.