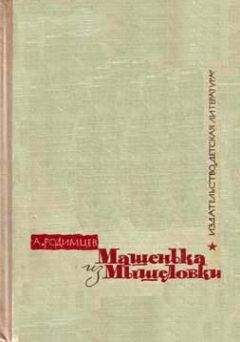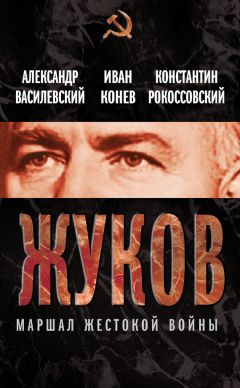Геннадий Сазонов - Открыватели
И вздох, и стон, и счастливый смех, и слезы. А Ваня что-то хрипел, осипший.
Прошло около часа, за стеной гремела посуда, позвякивали крышки от кастрюль. Колька вдруг заорал, стукнувшись лбом о стенку и не сумев ее сокрушить.
— Ешь! — поднялся за стенкой густой голос, наполняя комнату. — Почему? Как? — Голос налился гневом, словно он покраснел. — Не обо-жа-ешь? Ты не обожаешь куру? Я… я целый день, всю субботу мерзла в очереди, пуговицы от шубы оторвали. А ты?! — казалось, что вот-вот она расплачется, изойдет в слезах. — Замерзла, как кочерыжка, а ты?!.. Ешь! — скомандовала она и стукнула по столу сковородкой. — Или ешь… или…
Через десять минут Ваня в распахнутом пальто постучал к нам.
— Заходи! — Я провел его в комнату, он улыбнулся, как всегда, дружелюбно и доброжелательно, но сейчас улыбка не шла ему, обмороженное лицо противилось ей, мялось в гримасе. — Ну, как там?
Ваня осип, надорвал голос. Много всегда крику при ликвидации аварий, но потихоньку, прикашливая, хрипя, он рассказал, что все обошлось благополучно, двоих, однако, увезли в больницу. Иван вдруг признался, что аварию переживает впервые, никогда не думал, что с таким столкнется, и его никто не учил об этом думать. Он готовился к геологической службе — это интеллектуальная, глубоко изыскательная, камерально-кабинетная работа, а здесь — штанги, насосы, поглощения и обрыв инструмента. Но ему нравится, начинает нравиться работа на буровой. Потом пили чай, и Ваня, опустив глаза, спросил:
— Ирина Васильевна, я поссорился с женой. Можно мне… Дайте ночлег.
— Что, так серьезно? — улыбается Иринка. — По крупному счету?
— Да! — отвечает он. — По крупному. И навсегда. Нам следует развестись…
— Помиритесь, — успокаиваю его. — Чего не бывает.
— Нет, мы глубоко и взаимно оскорбили друг друга. Не верите? Так вот, она назвала меня эгоистом… а я не выдержал.
— Так что же?
— Не выдержал и обозвал ее дурой!
Да, видать, крупно поговорили, прямо до развода…
— Это какой осел здесь стул поставил? — вдруг спрашивает Иринка.
— Это папа! — отвечает Верка. — А вчера ты его звала «барбосом». Почему, мама?
— От любви все, — успокаиваю Верку, — когда так называют — это от любви, а вот когда на «вы», по отчеству да по фамилии, тогда все пропало…
— Она меня Иваном Григорьевичем назвала, — шипит Иван и проигрывает мне ферзя. — Это что же она — мат мне, а?
— Да, — отвечаю ему. — Детский мат в три хода. Ложись-ка спать!
Ночь он провел на полу, в спальнике, но не сомкнул глаз, ворочался, несколько раз выползал на кухню и курил.
— Ну и чудаки, — смеется в подушку Иринка. — Психи ненормальные.
— Тихо! — шепчу ей. — Она ему цветы достала. И курицу.
— А мне некогда торчать в очереди, — взвивается вдруг Иринка. — Только о себе думаешь. Курицу достала, ну и подвиг!
— Так он не ест ее, понятно тебе?
— Как не ест? Совсем, что ль, не ест? Точно — психи! — И опять закатывается, трясется в смехе.
Иван курил в кухне, а за стеной не умолкая отдавались шаги, одиноко слышались они в опустевшей комнате, где у голубого морозного окна в нежное чудо раскрывались цветы. Утром Иван раньше времени убежал в камералку, и тут же к нам заглянула Валя.
— Он не повязал галстук, — рассеянно сообщила она. — А ботинки надел без носок.
— Вот до чего же заработался человек, — осталось мне посочувствовать.
Вечером Иван вновь сидел напротив меня и вновь проигрывал ферзя. А потом Ирина сказала:
— Иван, уже поздно, нам пора спать.
— Ложитесь! — буркнул он. — Я еще почитаю.
— Но я не могу при тебе раздеваться, — заявила Иринка. — Не обижайся, я не могу тебе позволить оставаться у нас. Ты как бы вовлекаешь нас в сообщники… У тебя есть дом, тебя ждут.
— Она прогнала меня. И уезжает к маме…
— Прогнала? А ты войди!
Ваня осторожно, ногтем поскреб в дверь.
— Кто там? — чеканно, отчетливо спросила Валя.
— Я! — ответил Иван.
— Кто — я?! — холодом отозвалось из-за двери.
— Ваня!
— Что вам надо, Ваня? Что вам угодно в столь поздний час? — зазвучало ледяным голосом.
— Я больше не буду! — буркнул у двери Ваня.
— Что вы больше не будете? — отчеканила Валя, а Иван ворвался ко мне и прошептал: «Все пропало, она меня на „вы“ зовет, на „вы“, понимаете?»
— Но переговоры-то ведет? — поинтересовался я. — А раз ведет, так жми!
— Чего ты больше не будешь? — уже который раз выспрашивает Валя по ту сторону двери.
— То есть буду… стану… — заторопился Иван.
— Чего ты будешь? — уже с отчаянием кричала Валя. — Ответь, что будешь… и чего ты не станешь?
— Курицу есть буду!
Звякнули ключи, Ваню впустили.
— Вот бы нам так, — позавидовала Ирка. — А то тебя не тронь — первооткрыватель.
— Что ты еще не ешь?! — требовала за стенкой Валя. — Что ты еще не ешь, говори сразу. Чтобы больше я не надрывала душу о мелочи жизни! Сыр ешь?! Яйцо?! Рыбу?! Борщ ешь?
Допрос продолжался долго, и выяснилось, что Иван больше всего любит жареную картошку и кильку.
— И это все? — поразилась Валя. — Ты до неприличия неприхотлив!
— Все! — отрезал Ваня.
— Боже мой! — простонала Валя. — А я-то старалась…
Мой дед Захар Нерчинск
(Повесть)
Глава первая
Село мое остается вечным среди покоя полей и привычным, как хлеба, как дуплистые ветлы над омутами реки. С востока его берегут курганы и обрывистые меловые берега речушки, а с запада — заросшие дубняком шиханы. В село врываются суховеи, гонят перед собой перекати-поле, и никнут тогда травы, горчит полынь и пылит обожженная земля. Над селом куражились грозы и метели, тихо-тихо затухая, проползали осени и пуржили зимы, распускались весны, а под июльскими закатами наливались хлеба. Тихо, со вздохом, без проклятий уходила старость, горласто рождались дети — все было и остается нерушимо обычным, как день после ночи.
Необычными были дороги. Они откуда-то, из далекой дали, клубясь, врывались в село, раздвигали дома, выстраивая их в улицы, и просторные, под солнцем и ветром высветленные и свободные, уводили куда-то, в другую, еще более дальнюю даль, манящую своей недоступностью.
Дед мой, будто наткнувшись на невидимое, иногда подолгу вглядывался в дорогу. Дед смотрел, как дорога уходит в степь, вдыхал диковатый полынный запах, и ноздри его раздувались, а бабка чуть грустно всматривалась в лес, в зарастающие Тропы и выпрямлялась. Каждый видел свое, одному ему ведомое.