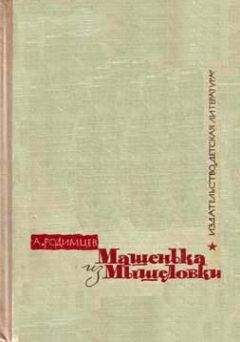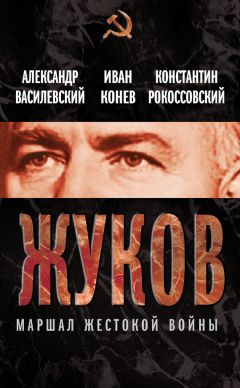Геннадий Сазонов - Открыватели
Колька баском зовет из комнаты. Иринка бросается к нему, потом выскальзывает в кухню с мокрой тряпкой и появляется уже с Колькой — сонным, припухшим, сладко причмокивающим. Потные волосенки завились, хохолком приподнялись над чистым розовым лбом, и Колька улыбается, показывая шесть своих зубов.
— Кроме серьезных аспектов, Ирина Васильевна, — Валя наполняет свою чашку и мимоходом отодвигает от Ивана торт. — Кроме того еще музыка. — И она мечтательно и томно вздыхает. — Музыка… Григ… Скрябин… «Есть в светлости осенних вечеров томительная…» да.:, да… что мы зовем «божественной стыдливостью страданья». Музыка и стихи — органичны. «Душа, душа, спала и ты, и что тебя сейчас волнует?» Как это прекрасно!
Колька забрался к Ивану на колени, приподнявшись, добрался до его лица и принялся выкручивать ему нос, потом пытается залезть в незнакомый ему рот, отгибая чужие губы.
— Гам-гав, — рычит на него Иван, а Колька беззвучно и безудержно смеется, просто от смеха колотится и пружинит на упругих ножках.
— Держись, — говорю Ивану, — поддаст на брюки, у него это ловко получается.
— Язык, философия. Музыка и стихи, да. Но, Евгений Петрович, главное — работа, — продолжает раскрывать свою позицию Валентина. — Мы так мечтали о Тюмени… Ваня просто ею бредил, и я даже начала ревновать его, уверяю вас. Разумеется, я не стала устраивать ему сцен, когда он отказался от аспирантуры. — Она затягивается сигареткой, но строго взглядывает на мужа и кладет пачку ближе к себе, — и он мне обещал. Да что там обещал — он поклялся мне открыть здесь нефть. Понимаете?.. Поклялся! — И поглядев на меня с тревогой, настороженно и смущенно спрашивает — Здесь ведь еще не все успели открыть, правда? А то все всегда достается первопроходцам — ордена, слава, степени… И не успеешь оглянуться, как все открыто…
— Успокойтесь, милая, — смеется Иринка, обнимая ее за плечи. — Хватит на Ивана открытий. Всем хватит, здесь еще не открытая страна.
— Да-да, Иван так и сказал: «Я подарю тебе жемчужину Оби».
— Он поэт, — грустно и чуть печально улыбается Иринка. — А поэты всегда нетерпеливы. Но вам года не хватит…
— А вы знаете, у нас диплом и свидетельство о браке одним числом, — неожиданно сообщает Валя. — После защиты. Запыхались, едва успели… в загс… и шампанское. А никто не знал, отчего мы так хохочем… Никто — никто!
— Да, года вам не хватит, Валюша, чтобы притереться друг к другу. Не говорю уже о том, чтобы поглубже узнать себя, — Иринка искоса взглядывает на меня. — И не до музыки вам будет… Вера! Спать! — приказывает она.
Перед приходом «молодых» мы крупно — который уж раз — поссорились.
«Последний раз я скажу, кто ты! С тобой я похоронила молодость! Ты эгоист! Ты бездушность! — выкладывала Иринка, бледнея и стараясь удержать слезы. — Десять лет я потратила на такое ничтожество! Ты бездарь! — Она почти кричала. Нет, она действительно орала. — А я любила тебя. Но за что же, господи! За что я любила его?»
И я, в чем-то оправдываясь, извивался в кольца, выкручивался. «Подожди. Будет нефть. Вот-вот! Только не пори горячку». Я ведь тоже когда-то обещал ей жемчужину Сибири. Мы тоже собирались заниматься языками, впитывать стихи и, подняв лицо к звездам, слушать музыку космических бездн. Но наши биографии оказались банальнее и труднее, чем рисовалось, — работа, заботы и бесконечность поиска.
«Грязь, мороз… стужа, снега, за что? За то, что придумала тебя! Все, я ухожу!» — И уставшая от работы, от ребят, от меня, пронзенная вспыхнувшей жалостью к себе, к уходящей молодости, к своему тридцатитрехлетию, она бросилась собираться к матери, в который уже раз наклонилась над распахнутым чемоданом.
Колька ползает на полу и пытается лбом проломить стену, бьет в нее головой. Верка дразнит шпагатинкой котенка, а чемодан раскрыт.
За стенкой бесконечная хлябь, а меня срочно вызывают на буровую, фонтан… Мой фонтан! Где ты?
Забуранил ноябрь, поднялся сугробами декабрь, и мигал-подмигивал серенько коротенький январский день. Но жарко мне было в ту каленую февральскую ночь, когда зафонтанировала скважина и нефть была чернее черной ночи. Она съедала, проглатывала снег и дымила подземельным паром. Нет, десять лет моих были не ожиданием, а непрерывным поиском. Я искал ее, а не ждал. И вот мы ее нашли!
За стенкой у соседей по вечерам слышится английская речь, обрывки фраз, резкие, словно команда. Доносится музыка, прозрачная и чуть холодноватая, как обледенелая дорога в никуда. Сократ спорит с Платоном, диалектика с метафизикой, из философских джунглей вдруг прорвется тропическая непостижимость Имы Сумак, И все стихает там, за стеной.
А Колька мой цепляется за ноги, и у него полон рот зубов. Иринки нет, пришла телеграмма: «Родной ты мой, диссертацию всеми голосами».
Иван на неделю выехал на буровую. Застрял. На полмесяца. Валя, ожидая его, бегала по магазинам, развешивала шторы, расставляла керамику «под греков», тащила продукты, забегала к нам на минутку и, засияв-светясь, сообщала: «Завтра Ваня будет! Ой, завтра!»
Мороз скрипит в деревянных тротуарах, забирается в мохнатую собачью шерсть. Снег жестко осыпается с крыш. Поднимается столбом дым, и от него падает тень, а дым не опускается, забирается все выше и там невесомо, неуловимо оборачивается туманом. Будто присели дома, и окна закурчавились снегом. По мягкой, заиндевевшей улице пробегают закутанные по глаза люди, и дышат они в воротники, в лохматые свои рукавицы.
Взвизгивает мороз собачьей стаей. А Валя каким-то фантастическим случаем раздобыла цветы, и в холодную комнатенку пришло лето. Пришло хоть на вечер, хоть на миг. И они казались чудом рядом с окном, где на голубоватом стекле зима раскинула морозный узор.
От этих цветов спирало горло.
Около дома притормозила машина, крытая брезентом. Из кузова вывалился промерзший Ваня. Ресницы слипались от мороза, и весь он словно закостенел, не мог разогнуть руку и сжать растопыренные припухшие пальцы. Двигался не разгибаясь, деревянно передвигая ноги, и те будто похрустывали. Слышно стало, как он покашливал за стеной, шуршал, скрипел стулом, стаскивал, придыхая и постанывая, унты, а те каменно, обледенело стукали об пол. Ваня пошарил по комнате, побродил и прилег в постель под одеяло.
А потом проскрипели ступеньки под нетерпеливыми шагами. И от порога, не закрывая двери и распахнув платок, Валя крикнула: «Ваня… Здравствуй, Ванюша!» Но ответа не слышно. «Что с тобой? Ты охрип, ой, Ваня! Потерял голос, боже мой. Не опасно? Не надолго? Ты кричал?» — Заторопились по комнате шаги, заскрипели, застонали половицы. «Ваня… Ванюшенька. Авария? Говори, не скрывай… Жертвы?»