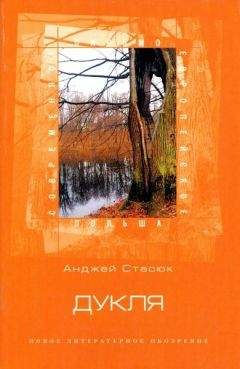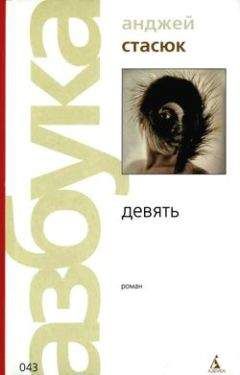Анджей Стасюк - На пути в Бабадаг
А потом была деревня Рет-Баз, и в доме Кемаля Цакони я впервые в жизни запивал раков простоквашей. Мы сидели за низким столиком, босиком. На стене висел коврик с видом Мекки. Мы ели виноград. Женщины подавали еду и возвращались на кухню или стояли на пороге. Мы поднимали тосты за удачу, счастье и здоровье. Кемаль с гордостью представил нам сына. Парень был худосочный и робкий. Работал в Германии. Он сразу ушел. Кемаль разговаривал с Илиетом, и они вспоминали прежние времена, когда Илиет учительствовал в этих краях. Он жил в одиноком доме у самого кладбища и боялся привидений. Я пытался вообразить судьбу призраков в государстве Энвера Ходжи, который 29 апреля 1967 года провозгласил Албанию первым в мире атеистическим государством. Идея почти столь же диковинная, как вид могилы Чаушеску, которую я посетил год спустя на кладбище Генча в Бухаресте. Высота надгробия, увенчанного белым крестом, едва превышала метр. Там, где человек ожидал увидеть голову Христа в терновом венце, сияла красная пятиконечная звезда. От потрясения мне захотелось курить. Вокруг была ограда из железных прутьев. Даже после смерти параноик-сапожник погряз в безумии. Крест и коммунистическая звезда должны были светить ему за могильной чертой. Он и при жизни трясся от страха, и теперь обливался холодным потом. Поэтому на всякий случай ему выдали на дорожку и то, и другое. Что-нибудь да пригодится. Похоже, он не знал наверняка, кто заправляет на том свете. Хотя, скорее всего, он разлагался за этой железной оградой, целиком и полностью, разлагался вместе со своей душой. Там виднелись капли стеарина, остатки догоревших свечек. Кто-то приходил сюда, чтобы отправить убогий культ. Как знать, возможно, тайные посланники английской королевы? В конце концов, это она возила его по Лондону в собственной тачке и пригласила в Букингемский дворец. Загадочны западные люди, загадочны их чувства. Во всяком случае, я думал, что это отличное наказание — лежать вот так, на обычном кладбище, лишь слегка присыпанным землей, без всякого мрамора, в каких-нибудь двух километрах от «Дома народа», этой пирамиды, выстроенной в угоду вкусам сапожника, махины двести метров с гаком на двести. Чтобы подойти к ней, даже по прямой, надо четверть километра топать по выжженному голому пустырю. Мне было неохота, и я удовлетворился видом издали. Предпочел взглянуть на его могилу, это интереснее. У входа на кладбище нас остановил охранник. Двухметровый, похожий на смуглого Рембо, в военной форме с десятками карманов, с рацией, он спросил, покоится ли тут кто-то из наших близких. Ролан ответил ему по-румынски, что да, разумеется, родственники. Выходит, они все-таки боялись и следили. Чтобы однажды лунной ночью он не вылез, не пересек аллейку и не откопал Елену. Потому что они лежали отдельно. Их разделяли какие-нибудь двадцать метров. Ей повезло значительно меньше. Только железная ограда да железный крест, покрытый черной антикоррозийной краской. Внутри голая сухая земля. Кто-то повтыкал какие-то растения, но они не принялись. Вообще-то кладбище было зеленое, только у этих двоих ничего не росло. Словно они выделяли какой-то яд, отравляющий корни. Повсюду вокруг что-то лезло из земли — сорняки, кусты, папоротник, молодые деревца, а тут пусто. Вторая половина августа, а у них пяток чахлых побегов, как в начале апреля, словно ритмы вегетации на них не распространялись, словно могилы чем-то поливали — дефолиантами, кислотой, «рендапом». Мне кажется, это их тела источали некую субстанцию, лишенные голоса, взгляда и движения, они пытались вступить в контакт с помощью тления, своих трупных соков. А потом я увидел еще одно его надгробие. Из коричневого мрамора, оно стояло спиной к тому, с красной звездой. Гораздо выше его, увенчанное крестом, с кладбищенской фаянсовой фотографией, на которой сапожник был запечатлен в костюме, белой рубашке и при галстуке. На цоколе была надпись: «Olacrima ре mormitul tau din partea poporlui rоmаn», то есть примерно следующее: «Слеза румынского народа на этой могиле». Ни больше ни меньше. А раньше, видимо, румынский народ развлекался напропалую и животики надрывал со смеху. И словно этого было мало, там стоял еще один крест. Такой же, как у супруги. Черный, железный. Его просто вкопали в землю рядом с мраморным надгробием. Вышла какая-то мрачная пародия на Голгофу. В каменном горшке, притворившемся урной, торчал засохший стебель. Закопченное основание надгробия было испачкано желтым стеарином, валялись выгоревшие лампадки, печаль временности и дешевая имитация вечного покоя. Неподалеку на плите белокаменного склепа стоял и смотрел черный пес. Наверное, тоже следил, чтобы тот не вылез. На выходе к нам подошел охранник и сказал: «Я так и знал, что вы к нему».
Сегодня снова приезжали возчики. Как вчера и позавчера. Монотонно, неспешно, в тумане. На белой дороге остается конский навоз. Теперь их только двое. Грузные, массивные, сильно за сорок. И два бурых коня. В пол-третьего они начинают подниматься по долине. В пол-четвертого темнеет, к этому времени они уже дома. Распрягают лошадей, ставят их, поют и кормят. Слышно, как бренчит привязь, ударяясь о жестяное ведро. Кони переступают с ноги на ногу, грохочет настил в конюшне. Темно и тепло. Пахнет навозом и сеном. На ржавых гвоздях висят сбруи.
Несколько дней назад я был в Мезёкёвешде. Дождь начинался и тут же замирал. Все блестело, как стекло. Воскресным утром в брезентовых будках на площади шла торговля. Скользили люди с хозяйственными сумками. Печальные праздничные декорации оледенели. Банкомат находился на улице короля Матиаша, того, с бледно-голубой тысячи форинтов. Я выехал на автостраду. Три одинокие машины казались автомобильными духами в этом тумане и густеющей мороси. Я ехал к Мишкольцу. Да, все сверкало. Голубые тополя, желтая трава, синие таблички указателей. Боже, до чего же пуст и прост был этот пейзаж. Ничего, кроме плоскости и редких гребешков голых деревьев на горизонте. И мне казалось, что от этой морозной глазури звенит весь воздух. Где-то возле Эмёда были повороты на Дебречин и Ниредьхаза. Серые блестящие ленты Мебиуса исчезали в небытии Большой Венгерской низменности и с трудом верилось, что там стоят все эти города, городишки и деревни с их домами, печным дымом, жизнью и всем прочим. Кажется, в окрестностях Эмёда в начале декабря я пережил очередное явление бесконечности. Но продолжалось это недолго, потому что мне сразу вспомнился Эстерхази с его «Возчиками». «Приехали! Возчики приехали! Их вопли разрывают рассвет — рваный, серый, невзрачный, — тишина хрупка и пуста. … Вожжи болтались свободно, ледяная крошка звенела под коваными колесами».
Ах, я всегда хотел написать что-нибудь о «Возчиках», только искал повода. Двадцать пять страниц текста. Расступается мокрый, глухой воздух, и они словно появляются из сна, который снится кому-то, кто сильнее нас — явившиеся на землю посланцы-искусители. Неотличимые от своих грузных животных, горячие и неповоротливые туши.