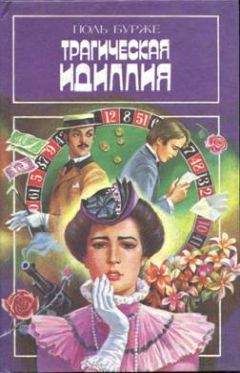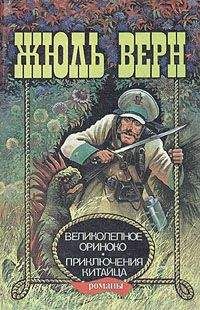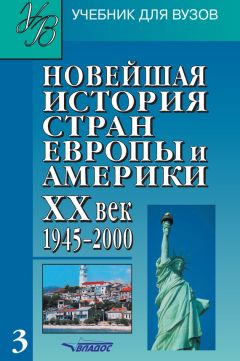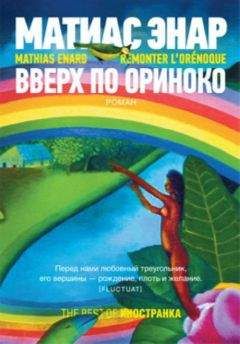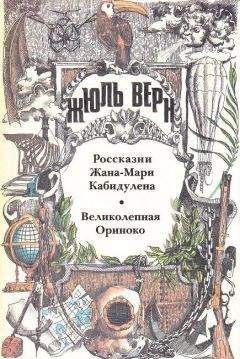Виктор Норвуд - Один в джунглях. Приключения в лесах Британской Гвианы и Бразилии
Я уже не знал, где ручей, где река и совсем не представлял, в каком направлении двигаюсь. Но все же не терял уверенности, что рано или поздно выйду к реке. Положившись на волю случая, я старался подавить тревогу и привыкнуть к мысли, что мне предстоит пробираться через эти дебри. Я пробьюсь, я должен пробиться. И я продолжал двигаться, рубить ветки, карабкаться, ругаться, падать до тех пор, пока не спустилась ночь, слившаяся с тусклым полумраком дня. И вместе с темнотой пришел страх. Где найти пристанище на ночь, как выбраться на сухое место, пока еще видно хоть что-нибудь?…
Все же я нашел себе «берлогу» среди корней огромного дерева. В стволе было дупло, куда могли бы втиснуться три человека. К моему удивлению, здесь оказалось довольно сухо. Мох и прелые листья поднимались над водой, так что можно было устроиться даже с некоторым комфортом, если не считать обилия насекомых. Прежде чем забраться в дупло, я проверил, нет ли в нем змей и сороконожек. Казалось, что этой ночи не будет конца. Со всех сторон неслись какие-то таинственные всплески и громкое ворчание, а страшный рев аллигаторов не смолкал почти до утра. Среди кривых корней вокруг моего убежища носились летучие мыши.
Потом ненадолго показалась луна, посеребрив неподвижную воду между стволами деревьев. Лягушки квакали не умолкая. Но под утро бледное небо затянуло тучами, поднялся ветер и загудел высоко в ветвях. Во всю силу хлынул дождь, неизбежный, безжалостный дождь. Он застучал по плотной листве и, пробившись сквозь нее, капал в болото и бесчисленными струями стекал на дно дупла, пропитав насквозь пористую подстилку из мха и листьев.
Когда дождь кончался, с листьев и с веток еще долго капала вода, так что трудно было понять, когда идет дождь, когда нет. Но я спал, несмотря ни на что, свалившись от изнеможения. Пробуждение было безрадостным. Все мое тело онемело и ныло. Рука, покрытая коркой запекшейся крови и густо усеянная насекомыми, кошмарно болела. При каждом движении с лица и бороды отваливались куски растрескавшейся сухой грязи. Я снова обмазался грязью и двинулся по мрачному лесу, подгоняемый ужасной мыслью, что я долго не протяну в таком состоянии — без пищи и все время мокрый.
Но эта адская ночь была лишь началом, за ней последовало много таких ночей. Я брел, пробивался, падал. На следующую ночь я снова отыскал пристанище, если его можно было так назвать, и наконец-то выбрался из сплошного болота на твердый грунт. Но мои мучения только начинались. Я буквально умирал от голода. Меня терзала лихорадка и боль. Бесконечные дожди загнали почти всю живность в самую гущу леса. Я видел лишь нескольких жалких птичек, но поймать их было невозможно.
Все последующие дни я жил, как дикий зверь, испытывая совершенно звериный голод. Я выкапывал разные корни: ямс, маниоку, танья. Здесь не было ни фруктов, ни ягод, ни орехов. Если мне встречались озерки и ручейки, я часами безрезультатно пытался пронзить заостренной палкой юркую рыбу, но все мои усилия сделать это левой рукой выглядели просто смехотворными. Иногда я ухитрялся поймать несколько крошечных рыбешек, но это случалось очень редко. Если мне удавалось найти какое-нибудь прибежище на ночь, там всегда было полным-полно жуков или муравьев.
Чтобы не спать на голой земле, приходилось вбивать колья и делать настил. Эта, казалось бы, обычная и несложная работа превращалась для меня в постоянную пытку. Я обливался потом и почти терял сознание от боли.
Все мое путешествие было сплошным кошмаром, которому, казалось, не будет конца. Страдание, боль, промозглая сырость, страх и вечный мучительный голод. Меня без конца терзали крошечные красные клещи, которые забирались под кожу вызывая нестерпимый зуд. Я совершенно терял власть над собой и в кровь расчесывал тело, а кровоточащие ранки еще больше привлекали злобных насекомых. Как-то я нашел кремень. Теперь задолго до наступления темноты я принимался высекать огонь, ругаясь от досады, когда мои усилия оказывались бесплодными. Я подолгу сидел на корточках над кучкой сухих (или только по виду сухих) щепок и мха, которые мне с трудом удавалось извлечь из какого-нибудь дупла, и упорно старался высечь искру из лезвия мачете. Иногда мне это удавалось. Но обычно, если я даже и ухитрялся высечь огонь и раздуть крошечное пламя, с бесконечным терпением стругая и подкладывая тонкие щепочки, неожиданный ливень гасил этот слабый огонек, не оставляя даже следа…
Такие ночи, когда я оставался без огня в непроглядно черной тьме, почти сводили меня с ума. Каждый час казался вечностью, каждый звук — угрозой. Я лежал на своей постели из веток, устроенной на кольях, и страх сжимал мое сердце: я боялся змей, летучих мышей, притаившейся мучительной смерти. А днем были свои страхи, которые так же неотступно следовали за мной: страх свалиться от ужасной болезни, страх встретиться с каким-нибудь зверем. Пить приходилось любую воду, и часто я не мог найти ничего, кроме грязных дождевых луж, позеленевших от тины. Я старался пить поменьше и терпел до тех пор, пока жажда, вызванная лихорадкой, становилась совершенно невыносимой.
Бывали моменты, когда я просто бессмысленно блуждал от одного места к другому, не сознавая, что делаю. Иногда я устраивался на ночлег, а когда просыпался, вспотевший и дрожащий, то оказывался в совершенно ином месте. Однажды в минуту просветления я догадался привязать к рукоятке мачете петлю из тонкого, но необычно прочного волокна пиассавы и, ложась спать, надевал ее на запястье. Это выщербленное лезвие было в тысячу раз дороже всех алмазов и золота, вместе взятых.
Я не решался тревожить свою раненую руку, просто держал ее все время завернутой в листья амапы, а сверху время от времени наматывал новые куски рубашки, когда прежние становились черными от крови. Рука болела теперь не так сильно, если, конечно, я случайно не задевал ее. Вся кисть онемела, и временами я чувствовал дергающую боль. Я мог кое-как двигать двумя здоровыми пальцами, но делал это лишь в самых крайних случаях. Во время сна или просто отдыха я всегда закутывал голову курткой, а руки обертывал большими листьями, Да и на себя наваливал листьев. И все-таки просыпался я всегда искусанный, а по всему телу ползали всякие насекомые. Особенно терзали меня муравьи. И всегда я просыпался в страхе, гнетущем страхе, не укусила ли меня этой ночью зараженная летучая мышь — переносчик бешенства? Раны у меня на голове покрылись струпьями, но я все-таки не снимал с них повязок.
Однажды я убил обезьянку. Она сидела на дереве, под которым я нашел яйцо, выпавшее из гнезда на мягкий мох и, кажется, не разбившееся. Обезьяна, одна из стаи тех красных ревунов, которых я слышал предыдущей ночью, сидела на высоте футов двадцати и сквозь листву внимательно разглядывала яйцо. Я мгновенно схватил его и уже собирался выпить, как вдруг мне в голову пришла счастливая мысль. Я положил яйцо на место и отошел в сторону. Когда обезьянка, как я и предполагал, с ужимками спустилась вниз, я с силой бросил в нее мачете и попал прямо в голову. Весь остаток утра я потратил на то, чтобы разжечь костер, и только к вечеру отодрал последний кусок волокнистого мяса от зажаренной, пахнущей дымом тушки. Я съел все до крошки, оставив лишь обглоданные кости да кишки, которые в тот же миг густо облепили муравьи.