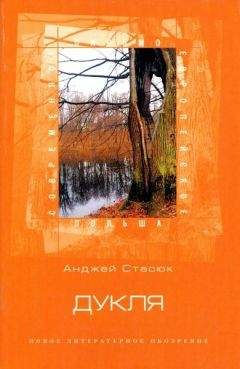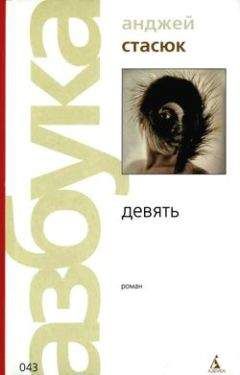Анджей Стасюк - На пути в Бабадаг
Как-то летом я целую неделю слонялся вдоль румынской границы и фантазировал, что там, по другую сторону. Я шатался по восточной Венгрии, по Сабольч-Сатмару, по песчаным захолустьям и деревням, задыхаясь от аромата свиного навоза, где-то между Матесалькой, Ньирбатором и Надькалло, и представлял себе Румынию, о которой почти ничего не знал, но мое воображение не имело границ, так что я видел сны наяву, сны, лишенные содержания, очищенные от формы, и это напоминало соприкосновение с нереальным, в существовании которого ты уверен гораздо больше, чем в самой реальности. Потом через Загоны я перебрался на Украину и тащился на поезде вдоль Тисы на восток, и снова справа на расстоянии вытянутой руки была Румыния, и только где-то в районе Сигетул-Мармацией меня отнесло на север и я избавился от этого наваждения. Спустя год я и вправду отправился в Румынию, но это «и вправду» оказалось воспроизведением старого сна, пограничной галлюцинации, и на самом деле это продолжается и по сей день и очередные печати в паспорте ничего не меняют, потому что невозможно поставить печать на видения, которые больше и прочнее всех границ вместе взятых.
Я кое-что в этом смыслю: сто шестьдесят с лишним печатей за семь лет, причем большинство из них — на «территориях со смешанным населением», в краях, где одно связано с другим без причины и с несущественными для целого следствиями, в пространстве, где вампирши по-прежнему венчаются с оборотнями и воображение не знает покоя, ибо только оно в состоянии одолеть хаос того, что якобы зримо, якобы осязаемо и в лучшем случае констатировано. Юг, юго-восток… Все напоминает здесь свободу и детство. Я словно пятился в прошлое, имея перед собой бесконечное количество тропок. Да, в воздухе Конечной растворено своего рода небытие, а в районе Зборова человеку уже плевать на собственную идентичность. С каждым километром она все умаляется, и, как в младенчестве, наше бытие в конце концов отделяется от нас, как нечто отличное от окружающего мира. Если ехать в Венгрию через Словенски-Нове-Место, то там, где наше шоссе пересекает автострада номер 552, начинается десятикилометровый отрезок, на котором можно разогнаться на полную катушку. Весной земплинские холмы желтит цветущий рапс. Вокруг царит такая пустота, что трудно понять, пейзаж это еще или его синтез. Шоссе то и дело карабкается на гребни, и спускается, и бежит так ровно, словно кто-то разматывает серую ленточку. На этих десяти километрах возникает ощущение, что в бытии наконец обнаружилась некая трещина, словно мы наблюдаем мир с изнанки: все по-прежнему, но не так, как было прежде. Перед Черговом на железнодорожном переезде приходится тормозить, и предметы медленно возвращаются на свои места, вероятно, затем, чтобы можно было почувствовать себя так, будто ты уцелел в катастрофе, вероятно затем, чтобы рассказывать всю эту фигню, стряпать легенды, позволяющие передохнуть от реальности, понять которую я не в состоянии, да и не пытаюсь. Я знаю, что за бензоколонкой «Словнафт» хоть раз в жизни должен поехать прямо, а не сворачивать, как обычно, направо, и увидеть наконец деревню Борши — место рождения Ференца II Ракоци[75] — героя одной из серий французского сериала под названием «Знаменитые побеги» и предводителя венгерского национального антигабсбургского восстания 1703 года. Да, знаю, я должен это сделать, должен поехать прямо, чтобы раз в жизни встретиться с реальностью, но все равно, словно Иванушка-дурачок, предпочитаю прятаться в блаженном мираже и, если на пограничном пункте нет очереди, через десять минут оказываюсь в тени старых деревьев на центральной улице города Шаторальяхелей. Эта тень не дает мне покоя. Не исключено, что это просто контраст с зеленой полупустыней последних словацких километров, контраст между идеалом пейзажа и совершенством города, где вековые деревья заслоняют причудливые фасады домов столь изысканно, что подвижные пятна света не отличить от лишаев на штукатурке. То же на центральной площади Сату-Маре, где деревья заслоняют голубые таблички указателей и человек без конца плутает, не находя выезд ни на Клуж, ни на Сигет, ни на Орадею, ни тем более на Бая-Маре, и в конце концов останавливается где попало, усаживается в зеленой тени и, проклиная румынскую флору, дожидается осени, когда листья опадут и раскроют стороны света.
То же самое в Черновцах, то же свечение древности и извечная тень силятся раскрошить стены, лепнину, силятся разгладить причудливые поверхности, сбить все эти карнизы, пилястры, балконы, эркеры, но Черновцы я как раз помню словно в тумане, ибо Сашко в своем неописуемом гостеприимстве навязал мне такой темп, что следующий день напоминал нутро раскаленной печи, из которой мы пытались убежать. На автобусном вокзале к нам подходили толстые таксисты и заявляли, что в Сучаву никто сегодня не поедет. Подходили и поигрывали связками ключей — от машины, от квартиры, от подвала, от висячего замка, от калитки, от почтового ящика и черт знает от чего еще. Они бренчали этим металлоломом и злились, что никто им не верит, никто не желает за несчастные пятьдесят баксов ехать с ними в Серет, и стояли, а вернее, нервно семенили взад-вперед и вытягивали шею поверх чужих голов, потому что таксист в этих краях, будь он даже сморчок, всегда видит больше других. Да, мужик, у которого есть большая тачка и нет возможности куда-нибудь поехать, — это тяжелый случай. Всюду одно и то же: в Горлице, в Коломыи, в Делатыни, в албанской Гирокастре, где за километр пути просили столько же, сколько в Берлине, при валовом продукте брутто тысячу пятьсот долларов на человека. Они сидели друг за другом в своих двадцатилетних «меринах»-«коробочках», но тарифы у них были немецкие, ни больше ни меньше. И не вздумай торговаться. С неба изливался жар, ни единого деревца, лошади разгребали копытами валяющийся вдоль помойки мусор, а они ковыряли в носу, скатывали шарики и щелчком отправляли в пыль дороги, точь-в-точь как наши на этих вечных стоянках. Ну а я уперся, что хочу в Эринд, потому что увидел на карте, что там тупик, а дальше — только массив Лунксгеризе, казавшийся безлюдным, словно продолговатый кусок луны, зарытый в дикое и прекрасное тело Албании. Должно быть, все это они вычитали в моих глазах, ощутили своей таксистской интуицией. Сдавшись, я сел в зеленый «двухсотый», едва не царапавший задом асфальт, и мы тронулись. Ах, следует отправиться в Эринд, чтобы хоть что-нибудь понять. Мы тащились в гору — вторая скорость, опять вторая, изредка третья и скрежет выхлопной трубы о торчащие камни. «На дороге не было тени. Путники брели по пыли, словно по грязи, и глядели на пожелтевшие обочины, с которых наводнения, ветры и солнце сметали все, за что мог ухватиться голодный и несчастный человек». Такая была картина. И потом руины Эринда. Дома, похожие на пещеры, зелень, не боящаяся жары, и несколько детишек среди белых домов, остальные жители, видимо, уехали на греческие плантации, потому что я не заметил ни собак, ни кур, и только в самом конце, на маленькой раскаленной площади, стоял памятник погибшим партизанам, с фарфоровыми надгробными фотографиями. Одного звали Мисто Маме, второго Михал Дури, двадцать один и двадцать четыре года. Там таксист остановился — ждал, пока я посмотрю. Он полагал, что ради этого я и приехал, ведь ничего больше там не было. «Ах, плевать на немецкие тарифы», — вздохнул я и отдал честь. В конце концов мужчина показал мне самое ценное, что у них имелось, и мало кто этим интересовался. В следующий раз я бы попал сюда года через два, так что деньги, если поделить их на время, на самом деле были ерундовые.