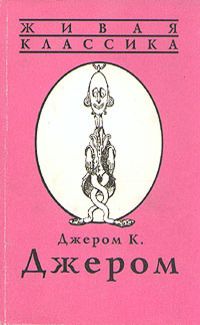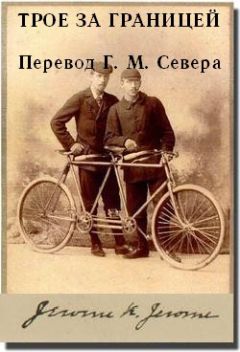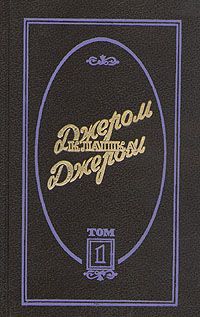Джером Джером - Трое на четырёх колёсах
Такие факты невольно наводят на сомнения: одной ли породы Тевтоны с грешным родом людским? Может быть, это добрые духи, слетевшие на землю только для того, чтобы выпить стакан пива — которое, как им должно быть известно, можно пить только в Германии?
Здесь дороги из деревни в деревню обсажены фруктовыми деревьями; никто, кроме совести, не препятствует пользоваться их плодами. В Англии такое обстоятельство возбудило бы страшное волнение: дети умирали бы сотнями от холеры, доктора сбились бы с ног в борьбе с последствиями объедения зелеными яблоками и неспелыми орехами, и публика пришла бы в негодование, требуя, чтобы землевладельцам запретили устраивать вместо заборов и каменных стен живые изгороди из фруктовых деревьев — за счет детских желудков.
Для англосаксонского ума представляется потерей времени проходить мимо целых стен фруктовых деревьев и не трогать их; по нашему мнению, смотреть хладнокровно на ветви, склоненные под тяжестью зрелых плодов, — было бы насмешкой над дарами природы. А в Германии мальчик пойдет по такой дороге за несколько миль, в соседнюю деревню, чтобы купить там на пять пфеннигов груш.
Мне кажется, что приговоренному к смертной казни немцу можно было бы просто дать веревку и печатные правила: он отправился бы домой, прочел бы их внимательно и повесился бы у себя на заднем дворе, согласно всем пунктам. Я не удивился бы, услышав о таком случая.
Немцы — хороший, добрый народ — может быть, самый лучший на свете. Наверное, в раю их гораздо больше, чем представителей других наций. Я только не могу понять, каким образом они туда попадают: невероятно, чтобы душа каждого отдельного немца самостоятельно влетала на небо; мне кажется, что их собирают партиями и отправляют каждую партию под охраной умершего городового.
Карлейль по справедливости признал за пруссаками — и это относится ко всем германцам — одну великую добродетель: способность к выправке. Научите его работать и отправьте в Африку или Азию, под начальством кого-нибудь носящего форму — и он будет делать что угодно, встретит хоть самого черта, если прикажут. Но сделать из него пионера очень трудно; предоставленный собственной инициативе, он скоро погибнет: не от глупости, а от того, что над ним нет начальства, которому можно слепо доверить себя самого. Немец так долго был ландскнехтом всех государств, что солдатчина вошла в его плоть и кровь. Он даже иногда страдает от ее избытка; мне рассказывали об одном лакее, незадолго перед этим окончившем военную службу: хозяин послал его с письмом в один дом и велел ждать ответа. Час проходил за часом, а человек не возвращался. Отправившись лично, хозяин застал его все еще в том доме, куда послал, хотя с ответным письмом в руке: он ожидал дальнейших приказаний.
Удивительнее всего то, что каждый человек, бывший сам по себе беспомощным существом, становится у них энергичным, сообразительным, находчивым — лишь только на него наденут форму и сделают начальником над другими. За других он готов отвечать, охранять их, управлять сам собой. Немец или повинуется, или командует. Остается одно: обучать их всех командовать — и затем отдавать каждого под его собственное начальство; тогда он будет отдавать сам себе разумные, смелые приказания и следить, чтобы они были исполнены.
У них один девиз: долг, а понятие о долге сводится, кажется, к следующему: слепое повиновение каждому, кто носит блестящие пуговицы. Эта идея диаметрально противоположна той, на которой построено процветание англосаксов; но так как и тевтонская раса тоже процветает — значит, в обеих системах есть истина. До сих пор Германии везло относительно правителей, тяжелое время настанет для нее тогда, когда испортится главная машина, но, может быть, описанный выше характер народа постоянно подготавливает хороших правителей; это вполне вероятно.
В сфере торговли немец, мне кажется, всегда останется позади англосаксов — если только его характер не переменится: теперь он слишком добродетелен для купца. Жизнь для него не представляет погони за богатством, он придает ей больше смысла; среди дня он запирает лавочку (даже банк и почтовую контору) на два часа и отправляется домой — пообедать в недрах семейства и вздремнуть за десертом. Такой народ не может соперничать с тем, который на пять минут отрывается от работы, чтобы позавтракать, стоя у прилавка, и спит с телефоном над кроватью.
В Германии не делается такого огромного различия между классами населения, чтобы ради положения в обществе стоило бороться не на живот, а на смерть. Правда, круг аристократов-землевладельцев держится у них как за неприступной стеной, но вне этого замкнутого царства — положением не гордятся и не смущаются. Жена профессора и жена мастера со свечной фабрики каждую неделю встречаются в излюбленной кофейне и дружно обсуждают местные скандальные новости; доктора не брезгают обществом трактирщиков, с которыми выпивают не одну кружку пива; богатый инженер, собираясь с семьей на пикник, приглашает принять в нем участие своего управляющего и портного: те являются с чадами и домочадцами, со своей долей бутербродов и питья, и все отправляются вместе, а на обратном пути поют хором песни. При таком положении вещей незачем тратить лучшие годы жизни на то, чтобы приготовить себе достойную обстановку для лет старческого слабоумия. Вкусы и стремления немца — и даже его жены — остаются до конца дней непритязательными. Он любит видеть в своем доме побольше красного плюша, позолоты и лакировки; но этим его понятия о роскоши удовлетворяются вполне; и может быть, это не хуже стиля Людовика XV в смеси с ложным стилем времен Елизаветы, электрическим освещением и массой фотографий. Иногда немец наймет художника и прикажет ему изобразить на главном фасаде своего дома кровопролитную битву — которой всегда мешает входная дверь, а в спальне над окнами парящего в воздухе Бисмарка. Но для того, чтобы полюбоваться хорошими мастерами, он идет в общественные картинные галереи и не разоряется на редкости даже тогда, если имеет деньги, так как в Германии еще не развилась страсть лезть в знаменитости и пока нет обычая осаждать «знаменитостей» в их домашней обстановке, чтобы затем описывать все в газетах.
Немец любит покушать. В Англии встречаются фермеры, которые, жалуясь на разоряющее хозяйство, с успехом едят по семи раз в день; в России в продолжение одной недели в году бывает пиршество, которое не обходится без смертных случаев от объедения блинами; но это — исключение, имеющее в основе религиозный обычай. В Германии же развилось особенное умение есть, «из любви к искусству», которого нет ни в одном другом государстве. Немец, только что встав, выпивает за одеванием несколько чашек кофе с полдюжиной горячих булочек с маслом; но этого он не считает и в десять часов садится в первый раз к столу; в половине второго садится обедать — очень основательно: обед считается главной едой в продолжение дня, и он предается ему как важному делу часа два подряд; в четыре часа он отправляется в кофейню и полчасика занимается там уничтожением кофе и сладких пирожков. Затем, целых три часа он не трогает ничего и только с семи начинает закусывать — и уж закусывает целый вечер: бутылку пива с бутербродами, потом, где-нибудь в театре, еще бутылку пива с холодным мясом и колбасами, потом еще бутылочку белого вина и яичницу и, наконец, перед самым сном — кусочек хлеба с колбасой и для промывки еще немного пива.