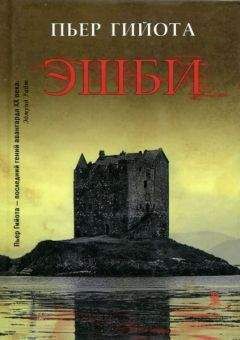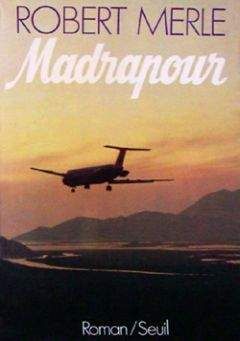Жан-Пьер Шаброль - Миллионы, миллионы японцев…
Жан, дорогой! Его наметки темы мне вполне подходят. Я много раз перечитывал письмо, и каждое слово рождает у меня множество зрительных образов. Стоит мне покачать какую-нибудь из его фраз, как невод, в воображаемых волнах, бьющих по моим лодыжкам, и я вытаскиваю его полным диковинных животных, отбросов, разрозненных башмаков и водорослей — к сожалению, массой водорослей!
«Пятидесятилетний чиновник…. бретонец…» (мне больше нравится севеннец!). «Молодой советник-дипломат…»
Беру и его. Беру обоих. На прелестном приеме во французском посольстве я столкнулся с такими типами. Умелое сочетание нескольких образов даст достаточно материала для сочного характера.
«От важности миссии у него закружилась голова…» Видал я таких! Мне остается только воспользоваться классическим примером какого-нибудь Ларгье или севеннского Лоза, расположенного на горном склоне. Старики изнывают в своем селении, где покинутая земля умирает. Шахты закрыты. Естественно, что сын подался в чиновники. Он «дорос» до Парижа, где с тряпкой в руке ходит вокруг знаменитого кресла…
Он у меня просто стоит перед глазами. Его поездка в Японию — реванш за неудачно прожитую жизнь! Когда он уйдет в отставку и вернется в деревню, у него будет что рассказать другим пенсионерам, работавшим в шахте, на почте, телеграфе и даже на железной дороге.
«Ложное представление, которое создал себе второй персонаж о Японии…»
Зачем далеко ходить за примерами? Я же сам всячески остерегался предвзятых мнений и хвастал тем, что приехал не предубежденный. Раз я испытываю разочарование, значит, у меня были иллюзии.
Оба персонажа пойдут в дело.
Старый примитивный чиновник, радуясь нежданно-негаданно выпавшей на его долю поездке, старается ни во что не вникать, он только видит, слышит, чувствует… Он не мудрствует лукаво. Он может так полюбить Японию, оказаться плененным этой страной до такой степени, что — кто знает? — уже не захочет вернуться во Францию…
Молодой блестящий дипломат все время стремится понимать, познавать… Надо сыграть на контрастах между двумя подходами к стране: поверхностным и сентиментальным — существа примитивного, умным и слишком трезвым — интеллигента…
Я должен заняться этой работой не откладывая, она кажется мне идеальным противоядием от неприятной горечи впечатлений, обрушившихся на меня с тех пор, как я приехал в Японию и затерялся тут. Ко мне, севеннцы!
Чиновник из Севенн? Он видит вещи в их изначальном виде. Его родные места — севеннские горы, он мало осведомлен по части прославленной экзотики и ничего не ведает об «Элладе Востока, обладающей волшебной силой околдовывать навек». Однако его незамедлительно поразит фактура (в понимании искусствоведов), он захочет трогать дерево, обои, старые полированные камни… Он почувствует себя хорошо, не ища причин этого, не уточняя, почему он подпадает под обаяние «очаровательной утонченности».
Он должен быть холостяком, желчным маньяком… Здесь, лишившись привычной обстановки — начальников по службе, приятелей по бистро, перед которыми он не хочет ударить в грязь лицом, мелких тягот своего жалкого существования, он бессознательно приобщится к буддийскому принципу отрешенности — хогэ дзяку:
«Избавься от привязанности к бесполезным вещам…» Он полюбит эти дома, где в теплое время года можно снять раздвижные ставни и со всех сторон раздвинуть внутренние перегородки, чтобы без помех видеть зелень и соседние скалы. Житель каменистого Лозера будет растроган при виде крошечной семейной скалы в садике, которую домашняя хозяйка раз в неделю моет и оттирает на совесть. Этот житель деревни, в которой за лето два-три раза мобилизуют всех трудоспособных, чтобы преградить дорогу пожару в сосняке, поймет постоянную тревогу народа, живущего в спичечных коробках. Летними вечерами он замешкается у перил вдоль рвов около императорского дворца, где лягушки квакают про его детство в стране горных потоков, суровой стране крестьян-бедняков, с хуторами, почти опустошенными бедностью.
Тому, кто вырос на таком хуторе, легко понять народ воздержания, легендарных спартанских привычек, даже особую мелодию, выстукиваемую японским дождем по крышам спичечных коробков, что напоминает ему стон сентябрей в Лозере…
Молодой дипломат? Он весьма начитан: Поль Муссе, Рене Груссе, Марсель Жюгларис, Робер Гийен, Фоско Мараини, Поль Клодель (даю себе зарок, вернувшись восвояси, проглотить их всех).
Ему, несчастному, хотелось бы понять:
почему города так уродливы, тогда как в домах чистота и интерьеры нередко свидетельствуют о прекрасном вкусе;
почему японский язык — только способ молчать наилучшим образом;
почему японцы соглашаются работать в бетонных домах, но не желают в них жить;
почему японцу внушили, что эти спичечные коробки — находка, спасающая жизнь при землетрясений, в то время как большинство его жертв умирает, сгорев заживо;
почему этот народ по одному слову императора хорошо встретил оккупантов, которых еще накануне считал «дикими зверьми», алчущими крови, рыжими дьяволами с огромными лапами, созданными, чтобы душить детей, непостижимыми существами, заросшими волосами, как демоны буддийской религии, чьи дьявольские взоры зажигаются только при виде кровопролития (так их годами описывали газеты по приказу того же императора);
почему этот работящий и дисциплинированный народ рождает единицы отчаянных и отчаявшихся героев и огромную массу педантов, ограниченных полицейских и простодушных приспособленцев.
Он будет искать японских интеллигентов, чтобы те помогли ему разобраться во всей этой мешанине из восьмидесяти семи буддийских верований, двадцати шести цивилизаций, двадцати пяти религий, тридцати восьми рас и народностей, пятидесяти шести вариаций влюбленности, шести ароматов, восьмидесяти двух запахов, ста двадцати тысяч зловоний, двух тысяч шестисот языков, тридцати четырех пороков — только не курение опиума! — по Конфуцию, Будде, Сократу и Канту — четырем светочам мудрости, по-братски восседающим рядом в алтаре храма философии — Тэцугакудо.
Усердный дипломат задастся еще множеством вопросов, на которые мне самому хотелось бы получить ответы.
Я уже представляю себе этого второго персонажа почти так же хорошо, как первого (во мне, несомненно, уживаются оба).
«Беда, приведшая к тому, что он потерял кресло…»
Тут передо мной богатейший выбор между такси, неправильными словообразованиями, поездами, улицами без названий, меняющими свой вид, домами — на одно лицо, лишенными номеров, манией японцев всегда отвечать «да», путаницами, недоразумениями, квипрокво, грубыми ошибками… Можно сочинить такую неразбериху, что разобраться в ней будет по силам лишь человеку с хорошей головой.