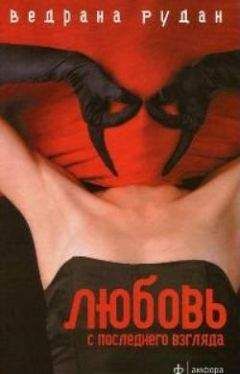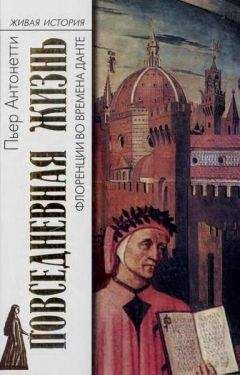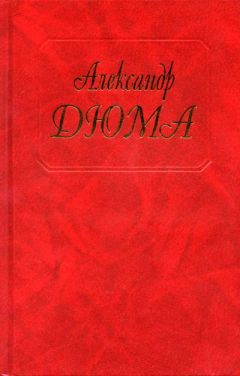Камни Флоренции - Маккарти Мэри
Умерший в 1531 году Андреа дель Сарто был ведущим флорентийским представителем bella maniera Рафаэля, то есть развивавшегося в Риме идеального «классицизма», к тому времени уже несколько стереотипного и слащавого. Его шедевр, «Тайную вечерю» в монастыре Сан Сальви недалеко от Кампо ди Арриго, во время Осады спас отряд флорентийских рабочих, которым поручили снести все строения в радиусе мили от городских стен (чтобы они не могли сослужить службу врагам, осадившим город). Как рассказывают, этими рабочими двигало чувство прекрасного, не позволившее им уничтожить нечто столь чудесное и лишь недавно вышедшее из-под кисти мастера. В «совершенстве» Андреа, кажущемся сегодня скучным и академичным, все еще сохранялся спасительный элемент флорентийского натурализма, той жизненной правды, которой отличались изображения повешенных на стенах дворцов Мерканция и Барджелло. Но именно в годы беспорядка, предшествовавшие Осаде, в ответ на творчество Андреа зародилось такое специфическое направление, как маньеризм, отклонявшееся и от натурализма, и от идеальных стандартов совершенства. «Неестественность» первых маньеристов — Понтормо и Россо Фьорентино — стала предметом язвительных замечаний Челлини и источником беспокойства для Вазари. Он рассуждает о «bizzarrie ed stravaganti» {33} позах, о «certi stravolgimenti ed attitudini molto strane» {34}. Ранний флорентийский маньеризм можно назвать первым опытом модернизма в искусстве, в том смысле, что он был совершенно непонятен для современников этих художников, тщетно пытавшихся найти обоснование тому, что казалось намеренным нарушением принятых канонов красоты.
Вплоть до Понтормо и Россо существовало общее согласие, причем не только среди знатоков, относительно того, в чем именно состоит красота, а в чем — уродство, и суждение флорентийцев всегда считалось истиной в последней инстанции. Тот факт, что они быстро принимали новое, не позволяло этому согласию скатиться на мещанский уровень — никто не жаловался на то, что Джотто не похож на Чимабуэ, а Брунеллески изменил план Арнольфо. Способность быстрого признания служила общим знаменателем в отношениях между художником и обществом. Все понимали, что имел в виду Микеланджело, говоря о «клетке для сверчков», и что имел в виду Челлини, сказавший, что «Геркулес и Какус» Бандинелли (после реставрации династии Медичи он изваял эту статую из куска мрамора, предназначавшегося для «Самсона» Микеланджело) напоминают огромный уродливый мешок дынь, прислоненный к стене. Шутка — вот доказательство того, что все способны одинаково смотреть на вещи. Маньеристы первыми потребовали от зрителей особой точки зрения, стали принуждать их к пониманию. С появлением Россо и Понтромо в искусстве впервые был задан вопрос: «Что могут увидеть в этом люди?» И даже в наши дни посетитель Уффици, не прочитавший заранее статьи художественных критиков и теоретиков, зайдя в залы маньеристов, будет спрашивать себя о том, что люди видели или видят в этих картинах, с их причудливыми фигурами, расставленными в «странных» позах и одетыми в кричаще-яркие костюмы.
В личной жизни и Понтормо, и Россо, говоря на жаргоне современных психиатров, отличались «нарушениями поведения». Понтормо вел отшельнический образ жизни в традициях Уччелло и Пьеро ди Козимо — одинокий ипохондрик жил в странном высоком доме, который построил собственными руками («cera di casamento da uomo fantastico e solitario» {35}), с комнатой наверху, где он спал и иногда работал. Он забирался туда с улицы по приставной лестнице и втягивал ее за собой с помощью лебедки, чтобы никто не мог войти и потревожить его. Часто он не отвечал, когда друзья стучали в его дверь. «Стучали Бронзино и Даниелло; я не знаю, чего они хотели». Жены у него не было, и в старости он усыновил подкидыша из Приюта Невинных. Мальчик доставил ему много хлопот, поскольку не хотел сидеть дома или запирался в комнате и отказывался есть. Дневники, которые Понтормо вел в последние три года жизни, свидетельствуют о его пристальном внимании к состоянию собственного желудка, почек и кишечника; он скрупулезно описывает свои скромные одинокие трапезы: «Съел на ужин десять унций хлеба, капусту, салат из свеклы». «На ужин гроздь винограда, больше ничего». «Съел „рыбу“ из яиц (frittata, то есть омлет в форме рыбы), шесть унций хлеба и несколько сушеных фиг». Писатель Франческо Бокки отмечает, что Понтормо был «чрезвычайно меланхоличен и держал мертвые тела в корытах с водой, чтобы они разбухли», и он мог использовать их в работе над фреской «Потоп» в Сан Лоренцо; запах сводил с ума всех соседей. Вазари, напротив, утверждает, что он мучительно боялся смерти, не выносил даже упоминаний о мертвых и совсем не мог смотреть на похоронные процессии. Во время эпидемии чумы он укрылся в монастыре Чертоза в Галлуццо. Россо (Рыжий), получивший это прозвище за огненный цвет волос, выкапывал тела на кладбище в Ареццо, чтобы изучить процесс разложения. Во Флоренции он жил в Борго деи Тинторе и держал в доме обезьяну, которую приучил исполнять кое-какие обязанности прислуги. Если верить Вазари, он покончил с собой в Фонтенбло, но современные исследователи это опровергают.
Из этих двух художников, бесспорно, более значимым был Понтормо. Его идиллия позднего лета «Вертумн и Помона», написанная для большой солнечной верхней комнаты в Поджо-а-Кайано, любимой вилле Лоренцо, представляет собой одну из наиболее убедительных и свежих буколических картин, когда-либо созданных художниками; своим светом и изяществом она напоминает венецианские картины восемнадцатого века, а силой рисунка — Микеланджело. Вверху, над центральным окном, получившим название «бычий глаз», двое обнаженных путти сидят на ветвях лавра, а двое других — ниже, верхом на стене. Ветки и нежные листочки трепещут под порывами ветра. Группа красивых сельских девушек, обнаженный юноша, старик с корзиной, молодой человек в короткой куртке и собака остановились отдохнуть, словно на обочине дороги, и уселись возле двух каменных стенок; эти стенки, пересекающие полумесяц люнета, служат платформой или опорой для всей картины. Сельские девушки (настоящие богини) одеты в летние платья с низкими вырезами, пышными рукавами, белыми кружевными воротниками или накинутыми на плечи косынками. Одна подобрала красную юбку и свесила белую голую ножку со стены, на которой сидит. Другая, в бледно-голубой шляпке, словно сошедшая с картины Яна Вермера Делфтского, смотрит через плечо на комнату, опять-таки, совершенно в стиле Вермера; она засучила рукава, повернулась к нам своим изящным боком, а из-под бледно-сиреневого платья виднеется голая ножка. Самая красивая девушка, с фиолетовым бантом в зачесанных кверху темных волосах, полулежит, опираясь на локоть, и внимательно смотрит вперед; она одета в оливково-зеленое платье с фиолетовыми рукавами, ее смуглая свободная рука изящно вытянута вбок, будто она старается удержать равновесие. По другую сторону окна сидящий на стене обнаженный загорелый юноша протянул отведенную назад руку вверх, словно играя в мяч. Склонившийся над корзиной старый добрый Вертумн похож на смуглого крестьянина или нищего. Юноша рядом с ним одет в сиреневую тунику и белую рубашку с широкими рукавами. Эти голые ноги, белые косынки, смятые платья, подвернутые рукава и подобранные юбки, бессознательное смешение тел в одежде или без нее, игра холодных, точных цветов и разгоряченной плоти в полутени веток лавра — ни один образ не мог бы лучше передать атмосферу теплого тосканского вечера в конце лета, на обочине дороги. Фреску заказал папа Лев X для увековечения памяти своего отца, Лоренцо, и от нее исходит дух естественной сельской жизни на вилле-ферме, описанный в письмах Полициано и в его латинских стихах: здесь и семейные поездки за покупками в Пистойю, и варка сыра, и тутовые ягоды, и павлины, и гуси. Преувеличенные объемы и строгая трагическая простота «Распятия» Понтормо (ныне хранящегося в Бельведере), написанного для придорожной часовни вблизи Кастелло, заставляют вспомнить о картинах Мазаччо.