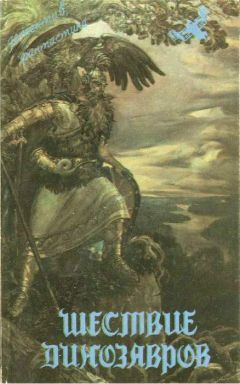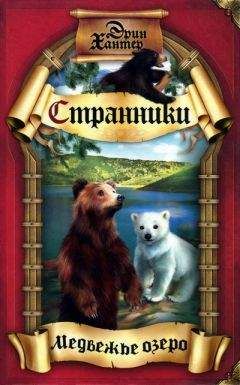Эрик Люндквист - Люди в джунглях
Ну!.. Десятые доли секунды отделяют меня от мгновения, когда олень окажется рядом и надо будет действовать.
Со мной что-то происходит. Словно другой человек оттеснил мое обычное «я», принял командование над моими дрожащими, напряженными мускулами.
Вместо меня, стиснув копье в онемевших руках, стоит дикарь. Дикарь, за которым тысячи поколений охотников. Мозг и руки жаждут крови. Будто чуткие нервные отростки протянулись от кончиков моих пальцев к острию копья. И копье стало частью моего существа. Промах невозможен. Руки не дрогнут. Неведомые силы движут мной.
В каком-то опьянении бросаюсь на оленя. Копье вонзается ему прямо в сердце. Я неотделим от копья, вместе с ним ощущаю трепет оленьего сердца. Чувствую, как убиваю. Вся моя воля и все осязание сейчас там — на острие копья.
Дикарь выдергивает копье из ослабевшего оленя. Зверь тяжело, со стоном падает. Брызги крови окропляют зеленую листву и тело охотника.
Дикарь упоенно пляшет, сжимая в руках копье. Он прирос к нему нервами, он убивает, он живет! В этом для пего единственный смысл жизни, в этом — все.
А вот и Банао. Он слышал вопль дикаря и нетерпеливо прорубает себе путь в зарослях.
— Туан орудует копьем не хуже ибана, — говорит он, скаля зубы в улыбке.
Дикарь исчезает. Я снова так называемый туан. Голый и грязный, окровавленный и дрожащий. Глаза прикованы к обагренному кровью копью. Пальцы не хотят разжиматься.
— Если туан останется разделать оленя, я пойду в Ситабок за людьми. Часа за два обернусь.
Принимаюсь за разделку туши. Я весь в крови, меня мутит от запаха внутренностей. Но в душе — радость охотника, который видит большие куски жирного мяса и великолепные рога.
Я ложусь в мутный ручей, пытаюсь отмыться. На коже множество царапин и ссадин, клещей и пиявок. Пустяки! Это все — ерунда! Зато у нас горы мяса. Чудесного, свежего мяса!
* * *
Только под вечер мы перетащили мясо на берег. Асао ждал нас с лодкой.
— Мы почти все собрали, — доложил он. — Мантри Джаин говорит — полсотни кряжей пропало, не больше.
— Отлично, Асао! Погляди-ка — мы тоже потрудились!
— Вот когда мяса поедим! — Асао помогает нам погрузить добычу в лодку.
Буксир входит в пролив, волоча за собой несколько сот кряжей. Ему еще всю ночь идти. Мне не хочется плыть на нем. Экипаж получает свою долю оленины, а Джаин переходит в мою лодку. Смеркается, мы — восемь человек — едем домой, усталые, но довольные: удалось собрать лес да к тому же раздобыть мяса.
На пристани меня встречает Сари.
— Я тебя жду целую вечность! Думала уже — ты совсем не вернешься. — Она берет меня за руку, и мы вместе поднимаемся к дому. — Сижу одна на пристани, а на душе так скверно. Не успела опомниться, как стемнело. А ведь домой надо идти мимо того места, где убило Лабиро. И я решила ждать тебя, хоть бы всю ночь пришлось сидеть. Слишком страшно одной идти. Чего только не передумала, пока ждала. Будто семь вечностей прошло, а теперь кажется — всего одна секунда.
— Значит, ты больше не боишься духа Лабиро?
— А! Это я только пока одна верю в такие вещи. Ты ведь знаешь, с тобой я другой человек.
Над нами спокойные ясные звезды. Босые ноги медленно ступают по тропе. Ночной бриз колышет пальмы на пригорке около нашего дома. Из поселка плывет аромат курений. Ветер приносит из джунглей дыхание цветущих сала, море манит куда-то запахом водорослей и ракушек, от человеческого жилья тянет дымом и пищей, сладко пахнут стебли риса, посаженного на поле.
Вдруг в эту симфонию запахов, словно голос солирующей скрипки, врывается благоухание мелати[17], цветка любви.
— Это мы его посадили и взрастили. Теперь он пахнет для нас. — Сари сжимает мою руку. — Он говорит тебе: добро пожаловать домой.
Прирученный олень в загоне возле дома, заслышав мои шаги, приветственно фыркает; собака прыгает, заливаясь лаем.
— Пойдем накопаем оленю батата, потом сами поужинаем, — предлагает Сари.
Мы собираем батат. В темноте теплой ночи играем с оленем, ласкаем его, затем идем в дом.
Спокойные, счастливые, съедаем свой рис и ложимся спать. Остро чувствуем полноту жизни. На миг мы уловили ее гармонию, нам не нужно слов, чтобы сообщить друг другу свои чувства.
Нам чудится, что мы постигли смысл жизни. Счастье в том, чтобы жить по законам джунглей. Охотиться до изнеможения, наедаться досыта, дружить с цветами и животными. Засыпать без мыслей и забот…
Философия джунглей необременительна.
Люди сердца
Весь первый год я был единственным белым на Нунукане. Да нет, нелепое это выражение — единственный белый. Можно подумать, человек живет в каком-то уединении. И его окружают чуждые существа, с которыми у пего нет и не может быть ничего общего.
Многие белые считают, что они выше так называемых цветных и ни за что не соглашаются признать их полноценными людьми. Это неумное и близорукое в своей основе воззрение особенно распространено среди англосаксов. Расовые предрассудки — одна из наиболее отвратительных цепей, которыми глупость сковала человечество.
Я-то не вижу, чтобы я в чем-либо был лучше или стоял выше своих смуглых братьев и сестер, и потому мне вовсе не одиноко в джунглях. Собственно, мой первый год на Нунукане был самым счастливым годом.
Потом руководство компании прислало голландцев, чтобы они помогали мне в работе и скрашивали мое «одиночество». И покою настал конец.
Я вовсе но виню самих этих голландцев. Они отнюдь не были заражены комплексом расизма. Слава богу, для большинства голландцев расовый вопрос — вопрос второстепенный. Главное для них — торговля и бизнес. Но ко мне на Нунукан попали типичные амстердамцы. Они никогда прежде не видели ни одного настоящего дерева, по понимали странных законов и языка джунглей и не могли приспособиться к «уединенному» существованию в нетронутом цивилизацией краю. Они отравляли жизнь и мне и себе. Их интересовали танцы, девушки, рестораны; люди, звери, охота не увлекали их ничуть. Джунгли и того меньше. Не удивительно, что через год-два они превращались в психов и отношения между ними и индонезийцами были далеко не лучшими. Я принимал сторону индонезийцев и получил кличку «этичный»[18] — так называли голландцы тех, кто, по их мнению, «заигрывал» с туземцами филантропии ради.
Другие, не «наши» голландцы говорили мне, что я как никто умею подойти к туземцам. Без особого труда мне удавалось поддерживать порядок среди тысячи с лишним коричневых рабочих из разных племен.
У меня не было никакого особого таланта, просто между мной и рабочими царило взаимное доверие. Они знали, что для меня они — люди, а не животные. Этого было достаточно.