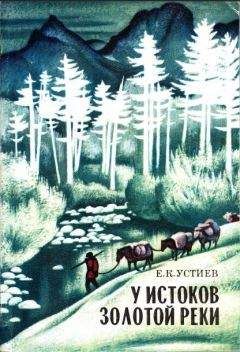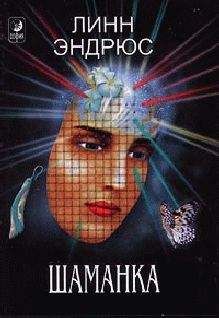Владимир Афанасьев - Тайна золотой реки (сборник)
— Хватит кочевряжиться! — взорвалась Евфросиния.
— Ух ты!.. — Седалищев ухмылялся, меряя Фросю сальным взглядом. — Тута трое русских торгашей объявились. Шибко не по нутру начальству высокому. Говорят, что околачиваются по побережью, среди голытьбы тискаются. На большаков вроде несхожи. Дубинистые. Такой раз смажет по рылу, другой не захочешь. А пощипать их больно хотца.
Седалищев хотя и был навеселе, но для порядка не выкладывал, зачем прибыл в Нижнеколымск. В его нагрудном кармане лежало особо важное распоряжение пепеляевского штаба об организации розыска и задержании руководителей Анадырского нарревкома, которые под видом торговых людей пробираются в Якутск для связей с органами Советской власти.
— Своё хотение до Бочкарёва оставь…
— Умна… — неискренне ухмыльнулся Седалищев. Оглядел мрачную компанию и снова опустился на лавку. Сделал несколько маленьких глотков из неполной кружки и пододвинул её Нелькуту. Однако тот никак не реагировал на этот жест следователя. Он опять выводил на хомусе протяжную мелодию. Древний якутский инструмент издавал заунывные звуки, навевая тоску.
Каждый раз, выезжая по своим делам в близкие или дальние районы, Бочкарёв поручал Нелькуту присматривать за Фросей. Да и не только за ней. Всевидящий одноглазый чукча был его покорным слугой и хорошо знал тундру. Кривого побаивались, зная его свирепую хватку и кровную мстительность к обидчику. На него иногда даже покрикивали, но это не означало, что кто-то был властен над ним.
Единственным человеком, кого он слушался, была Фрося. Она нравилась Нелькуту. Хотя Фрося чаще относилась к нему скорее с раздражением, чем приветливо.
— Попал я в логово, — промямлил Седалищев.
— Хорошо попал, — отозвался Нелькут.
— Дело к тебе есть.
— Дело надо делать.
— К рассвету будешь в Походске?
— Нет.
— Почему?
— Снег корявый.
— Сам ты!.. — Седалищев хотел было выпалить бранное выражение, но что-то сдержало его. — Носова ждать буду.
— Жди, жди, — спокойно ответил Нелькут и забренькал на хомусе.
— Распоясались… — с явным раздражением скрипел Седалищев, пододвигая к себе кружку с сивухой.
Тяжёлая дверь взвизгнула на проржавевших кованых петлях, и в избу проскользнул Мишка Носов. Вёрткий, маленький человечек с хитрым, скользящим взглядом. Забегал виноватыми, крохотными глазками по присутствующим и уставился на Фросю.
— Что на бабу впялился? — хихикнул Аболкин.
— Дурак! — усмехнулась Фрося.
— Сердитая женщина, — опасливо поёжился Носов и опустился на орон.
— Купчишек видел? — Седалищев уставился на Носова.
— Не купцы это, — ответил Носов.
— Кто же?
— Собрание делали.
— Так.
— Ленина знают.
— Ленина?
— И Мандрикова знают. Тебе скоро конец, Седаль.
— Ещё чего?
— Бочкарёву тоже конец.
— Оружие у них есть?
— Много.
— Собаки?
— Кеша Батюшкин дал. Курил дал. На Аллаиху пойдут.
— Где они?
— У Прасковьи Барановой были, у старосты были.
— У Барановой? Вот стерва! — Аболкин громыхнул по столу кулаком. — Она у меня закрутится каталкой.
— Активистка? — спросил Седалищев.
— Она…
— Михалкинские, мархаяновские и рыбаки из Курдигина были, — спешил доложить Носов, — говорили, что американским купцам конец.
— Загнул? — взъерошился Аболкин.
— Совсем нет, — обиделся Носов.
— Я им заткну уши! — заметался Седалищев. — Аболкин, немедленно в Походок!
— Не собираюсь…
— Как?!
— Нашёл дураков… Не твоё это дело, Седаль.
— Я тебе говорю: собери людей и…
— Не пори горячку, Седаль. Я сам пойду через Блудные озера на Волчью протоку. От меня не уйдут торгаши.
— Ну и бес же ты, Аболкин! — обмяк Седалищев.
— Я маленько собачек потравил, — гундосил Носов, суетясь возле Седалищева.
— Зачем? — Седалищев ухватил Носова за шиворот. — Дрянь!
— Совсем маленько потравил, — оправдывался Носов.
— Только на это ты способен, Нос, — Аболкин досадно плюнул.
Тревожно и пасмурно было на душе Фроси. Приезд Седалищева озадачил. Она строила планы, надеялась, что мытарствам придёт конец. Она устала от кошмарного бочкарёвского плена и чувствовала, что обстановка накаляется. За дверью слышался крикливый голос Аболкина. Отдавал какие-то распоряжения Седалищев. Тявкали упряжные собаки. Были слышны пьяные голоса…
— Почуяли добычу…
Потом стало тихо. Лишь отдалённый собачий перебрёх доносился из глубины ветреной ночи, но и он вскоре растворился в сгущающейся тревоге…
5
Внезапная февральская оттепель так спрессовала снега, что живительная пища белого песца — лемминги — пропала, и зверёк в поисках тундровой мышки откочевал в другие места, ближе к лесной части Приколымья. Метались по тундре и кочевники в поисках благоприятных пастбищ. Олень исхудал. С трудом копытился ягель. На красную лисицу навалилась чумка — болезнь заразная, эпидемическая. Тундровики, боясь, что болезнь перекинется на собак, отстреливали огнянку и сжигали в кострах.
И приход весны не радовал. Таяли скудные запасы. Не было надежды и на снабженцев. Однако пережили бы. Не такое бывало. Нарушен был привычный уклад самой жизни.
Старый Иннокентий всю ночь просидел в глубоком раздумье за чашкой крепкого чая. Дымилась отцовская трубка. Повсюду спали приехавшие к нему тундровики. Мерно плавал по тёплой избе неяркий свет коптилки. По белой медвежьей шкуре разбросал ручонки шестилетний мальчишка. Глядя на мальчугана, вспомнилось Иннокентию Ивановичу обидное детство. Да и было ли оно?.. Девятилетним пареньком остался без родителей. Подался в батраки — хамначчиты — к исправнику Среднеколымского округа Рындину. Жесток был исправник. За малейший пустяк избивал, сажал в холодный подвал. Протестовала мальчишечья душа. Да что он мог изменить?
По голодной дороге мимо рындинских трущоб проплывал кандальный звон. Батраки Рындина смотрели на измождённую вереницу закованных людей. Покачиваясь, она пропадала в хмуром распадке кровавой сопки. Кеша догадывался, кто были эти люди. Конвоиры называли их «политики». Помнил, как осенью возвращался он из рындинской часовни после всенощной. Ветер лепил мокрым снегом. Промокшие ноги хлюпали по вязкой грязи. В животе пусто. На душе горько. В хибарке нет ни кусочка даже весенней юколы. Он повернул к трактиру. Трактирщик не откажет. Правда, потом обдерёт как ондатру. Но это потом. А сейчас… У Кеши даже слюнки потекли от одной мысли, что ему отвалят кусок ливера и душистый ломоть хлеба.