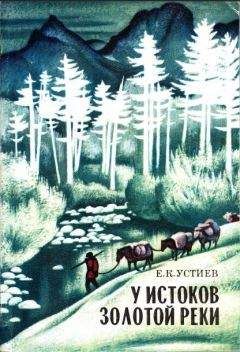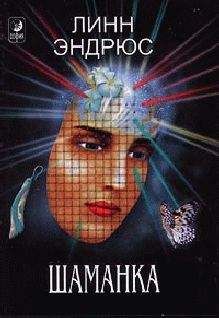Владимир Афанасьев - Тайна золотой реки (сборник)
— Конечно! — подтвердил Волков.
Тундровики стали переговариваться на родном наречии, посматривая на ревкомовцев, особенно на Шошина. Седовласый старик эвен встал, подошёл к столу, прикурил от жирника и спросил:
— Говорят, есть рабочие, солдаты и ещё… — Он даже зажмурился, стараясь вспомнить нужное слово. — Ну, как их?
— Крестьяне, — напомнил Шошин.
— Они! — обрадовался эвен. — А каким названием надо нас назвать? О жителях тундры ничего не сказано.
В притихшей избе ждали ответа. Шошин понимал: от того, какой он будет, зависит дальнейшее отношение и общение с этими людьми. Шошин помедлил, смерил старика добрым взглядом и попросил:
— Покажи свои руки.
— Вот… — Эвен протянул вперёд тёмные, в мозолистых трещинах ладони.
— Мой отец хлеб выращивал, так у него руки такие же были. Жизнь у тебя, батя, правильная и прямая, как нартовый след по первопутку.
— Хорошо сказал, догор… — Старик тёпло потряс руку Шошину.
Стало оживлённо; шумно и душно… Открыли дверь. Повалил в избу пропахший снегом и закатным солнцем воздух. Разгладились суровые лица, оттаяли остывшие сердца…
— Скажи, — слово взял Курил, — правда, что Ленин раздал землю и всё другое, отнятое у купцов и тойонов, бедным?
— Как в тундре олени должны принадлежать тому, кто их пасёт, так и земля, на которой выращивают хлеб, должна принадлежать тем, кто её обрабатывает. Революция, Советская власть навсегда покончили с бесправием, неравенством и эксплуатацией. Свободный народ стал подлинным хозяином своей земли, своей судьбы.
— Светлый Человек! — поднимаясь с лавки, сказал Иннокентий Иванович Батюшкин. Тёмные, спокойные глаза ещё крепкого старика выдавали силу его характера. — Ленин мудрее всех владык. Он своим умом пронзил сердце злого духа русского царя. Ленин, как наша тундра, всесилен, прост и понятен людям. Это наш человек! Когда мы вместе, это большая сила. Каратели обходят нас. Отныне они не найдут ни в одном живом уголке нашего края ни мяса, ни куска прошлогодней юколы…
Батюшкин внимательным, острым взглядом прошёл по лицам тундровиков и остановился на Калеургине!
— Носов заглядывал. Дверь не прикрыл. Верни его.
Калеургин и с ним мальчишка лет пятнадцати мгновенно влезли в кухлянки, на ходу натянули на головы малахаи. Кто-то сунул одному из них в руки винчестер. Не проронив ни слова, старший и младший ушли на задание…
— Опасный человек этот Нос, — пояснил Батюшкин. — Беду принесёт.
— Мы уже имели возможность убедиться, — ответил Шошин.
— Через два-три дня мы уйдём далеко отсюда. Что мне делать с вами, ума не приложу. Время неудобное. Кораль скоро.
— Иннокентий Иванович, у нас одна дорога — Якутск.
— Одним не пробиться, — предупредил Батюшкин.
— И всё-таки надо идти, — решил Шошин.
— Возьмите наших собак, — предложил Иннокентий Иванович, — Курил проводит вас…
Пока ревкомовцы беседовали с тундровиками, Носов на сильной упряжке уходил в сторону Нижнеколымска. Короткая мглистая ночь скрыла его. Тщетно Калеургин искал следы его нарт. Дойдя почти до острова Ыллааччы, повернул обратно. Начинавшие было проглядываться сквозь наплывающую облачность редкие звёзды погасли. Ближе к полуночи потянуло сыростью. Запуржила позёмка…
4
Утонуло в снегах на берегу Стадухинской протоки Колымы Нижнеколымское зимовье, поставленное Семёном Ивановичем Дежнёвым и его дружками дружинниками в конце первой половины семнадцатого столетия. Несколько рубленых изб, два просторных пустых амбара за засугробленным тыном да унылый погост с почерневшими покосившимися крестами.
Старенькие ходики отбили полночь. Связной есаула Бочкарёва, одноглазый каюр Нелькут примостился на ороне у края стола и, безучастный к пьяному разговору предводителя нижнеколымских головорезов Аболкина со следователем пепеляевского штаба Седалищевым, поскрипывал на хомусе. Протяжная заунывная мелодия береговых чукчей коробила подвыпивших офицеров. Наконец, не выдержав, Аболкин, состроив недовольную гримасу, загундосил:
— Хватит, Нелька, тошно…
Нелькут спрятал в карман меховых брюк-хамби хомус и притих. Седалищеву понравилась покорность чукчи, и он ткнул в его плечо кружкой, наполненной разведённым спиртом.
— Выпьем, Нелька, за здоровье полковника Бочкарёва!
Ухмыльнувшись беззубым ртом, Нелькут влил в кадычную глотку содержимое кружки. Вытер скривившийся в гримасе рот и просительно поглядел на следователя.
— Ещё дай?..
— Какие у нас люди! — куражился следователь. — Горы свернут!
— Такие и шею открутят, — пьяно промямлил Аболкин, плавая подслеповатым ехидным взглядом по рожам собутыльников.
— Семью Бурнашовых ты замочил? — Седалищев уставился на Аболкина. — Самовольничаешь?..
Шмыгая будто приклеенным к тощему угристому лицу широконоздрым носом, Аболкин ощетинился.
— Замолкни, паук! Ты уже в девятнадцатом такую страсть заимел. Забыл?.. Так напомню, как главного большака Иркутской губернии, учителя бедной сельской школы Николая Андреевича Гаврилова, ссыльного на вечное сибирское поселение, ты, иуда, грязными грабками на кусочки разорвал и на головешках по ветру раздул.
— А как ты думал?
— Зверюга!
— Не заговаривайся!
— Живоглот… С белоказаками под Красноярском в восемнадцатом девчонку, большевичку Аду Лебедеву, за что зарубил?
— Агитацию шибко рьяно вела польская шпиёнка.
— И за кого ты брюхо ненасытное раздираешь? — Аболкин провёл шелушившейся от чесоточного раздражения рукой по влажным синюшным мешкам под глазами и уставился алкогольным пучеглазием на следователя. — Может, миллионы держишь в американском банке? Брильянтов у тебя куча? С умишком чужим живёшь, Седаль!
— Не тронь мою душу!
— Дерьмо у тебя под рубахой!
— Смотри, Аболкин! — Седалищев, багровея, брызгал слюной, корёжа полусогнутые пальцы перед носом Аболкина. — Я на тебя за эти штучки-дрючки донесу!..
— Ух, стервятник!..
…И быть бы в доме мордобитию, если б не Евфросиния. Высокая молодая женщина с тёмными вьющимися волосами и крупными чертами гладкого лица держала жаровню с шипящими в жиру кусками оленины.
— Что не поделили? — спросила спокойным густым голосом.
— Дай я тебя поцелую! — пытаясь ухватить её за талию, ухмыльнулся Седалищев, складывая губы в чмочку.
— Уберись! — небрежно отодвинула его Евфросиния. — Перед полковником завиляешь…
— Есаул далеко… — Седалищев нагло потянул носом, обнюхивая обтянутую светлой кофтой упругую грудь. — Принцесса! Диколоном пахнет! Хэк, фу-фу.