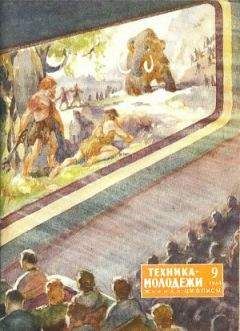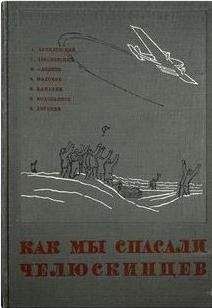Александр Старостин - Спасение челюскинцев
— Почему ты так думаешь?
— Потому что мы — старые друзья. И у Молокова опыта и мастерства больше, чем у нас с тобой. На бомбометание ты, конечно, взял бы меня. Тут — другое дело.
Каманин вздохнул.
— Войди в мое положение.
— Я и вошел. Забирай мой самолет, переливай в него топливо и лети. Я останусь на твоем ероплане. А еще лучше — поеду на собачках за топливом и запчастями. Может быть, успею принять участие в спасении.
Каманин поглядел на Пивенштейна.
— Лети. И поскорее, — сказал тот. — И еще. Имей в виду, что мой мотор при запуске любит побольше заливочки.
До Ванкарема оставалось шестьдесят километров.
Из радиограмм:
«Вчера до позднего вечера не поступало точных сведений о посадке трех самолетов звена Каманина, вылетевших 28 марта из Анадыря по направлению к мысу Ванкарем. Судя по отрывочным сведениям начальника полярной станции на мысе Северный и радиостанции Уэлена, самолеты по неизвестной причине изменили курс, повернув к району бухты Провидения…»
«Трое суток нет сведений о Каманине».
«Шесть суток не дают о себе знать Бастанжиев и Демиров, отставшие возле Мейныпильгино…»
«О звене Каманина сведений нет…»
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ЗАПАДНЫЙ мир жаждал сенсаций. Запад жил в предвкушении неслыханной арктической трагедии. Беды челюскинцев для многих западноевропейцев и американцев были не более чем газетные новости и приятное развлечение. О челюскинцах распространялись самые невероятные слухи, опять же в угоду читателям газет.
На Западе не могли даже представить, что на льдине возможна жизнь.
Сами челюскинцы, пожалуй, не воспринимали свою жизнь столь трагически. Первым, конечно, всегда трудно, но первые не всегда располагают временем задуматься над этим.
Конечно, каждый человек переносил холод и неудобства сообразно своему характеру, однако никто не мог даже подумать, что его оставят в беде. Каждый понимал, что за ним стоит великая страна, которая сделает все возможное для его спасения, и это удесятеряло силы.
На спасение челюскинцев двигались лучшие из лучших, те, кому наш великий народ доверил великое и благородное дело — спасение. А что у нас на Руси всегда почиталось и почитается высшей доблестью и добродетелью? Положи живот свой за други своя.
«Коварные» льды, утопив красавец-пароход, дали челюскинцам время построить барак, камбуз, склад, именуемый кооперативом «Красный ропак», утеплить палатки и выстроить сигнальную вышку, с которой в бинокль можно видеть аэродром, расположенный в трех километрах от лагеря.
Всех охватила строительная горячка и тяга к изобретательству.
— Голь на выдумку хитра, — шутил Воронин.
Появились подвесные столы и пепельницы, многофитильные коптилки, печки, самодельные шахматы и домино. Машинисты, прозванные за свою одежду «кожаными комиссарами», решили удивить всех и сделали в своей палатке «ванну» — квадратное углубление во льду, над которым можно умываться, не выходя на мороз. И даже мыться полностью: на стоящего в ванне лили сверху теплую воду, которая, впрочем, тут же в ванне и замерзала.
Итак, коварный океан дал челюскинцам некоторую передышку. Льды, однако, потрескивали, похрустывали и гудели, напоминая, что благодушествовать не следует, что в любую минуту может начаться подвижка. Если б только можно было предвидеть, где начнет ломать!
И вот в ночь, после того как женщины и дети пребывали уже в безопасности, а измученные работой и впечатлениями дня мужчины спали, раздался тугой с оттяжкой удар. Было похоже, что оборвался толстейший, натянутый до предела стальной трос. Потом что-то зашипело, затрещало, заскрипело, и все где-то рядом, под тобой.
Трещина прошла как раз под бараком.
Дневальный, который ходил вокруг лагеря, пальнул из винтовки, желая поднять тревогу, но этот выстрел ему самому показался слишком жалким по сравнению с гулкими и величественными звуками океана и льдов.
Люди, слабо соображая спросонья, что происходит, устремились из барака и палаток.
Трещина прошла как раз под тем листом фанеры, на котором мирно почивали два комсомольца — Кожин и Морозов.
— Братва, выноси валенки, намокнут! — крикнул кто-то.
— Нам собраться — только подпоясаться, — сказал комсомолец Кожин, сворачивая свой спальный мешок.
Плотник (он же печник, он же парикмахер, он же блестящий знаток русских сказок), Иван Кузьмич Николаев, заметался по бараку босиком в поисках своих валенок.
— Кто унес мои валенки, они сохли у печки? — спросил он.
Первыми пришли в себя плотники. Они сразу смекнули, что может произойти в следующее мгновение, и, не сговариваясь, принялись перепиливать стены над трещиной, в которой прыгала вода. Стоял пар, как в бане.
В полынью соскользнул чей-то меховой полушубок. Будучи извлеченным, он превратился в глыбу льда.
— Братцы, спасай продукты! Камбуз разворотило!
Плотники висели на стенах, как обезьяны. Трещина расходилась медленно, как бы нехотя. С плотников валил пар, пила, казалось, вот-вот сделается красной от трения.
Наконец, стены были разняты на две половины, и тут раздался хлопок и треск — брезентовую крышу разорвало надвое: ее не успели разрезать.
Получились две избушки — одна на одной стороне широкой полыньи, другая на другой.
Красноватое утро осветило лагерь. Клубился красный пар, торосы, казалось, таяли в красном огне.
Подвижка прекратилась так же неожиданно, как и началась.
— Все красно, как в аду, — сказал плотник Николаев.
— Обживешься — и в аду ничего, — улыбнулся Воронин. — Ну-ка, комсомольцы, сознайтесь, что перепугались, когда под вами разошелся лед.
— Ничуть не испугались, — сказал Кожин. — Мы теперь ко всему привыкли.
— Ну, коли так, пойдемте-ка, товарищи. Вон, все разворотило. Надо строиться заново.
…Шмидту снился живой и невредимый пароход, рассекающий форштевнем волны. И его охватила радость: значит, гибель «Челюскина» — это страшный сон, не более.
Но тут наступило пробуждение, пароход исчез, осталась только качка. Лед под спиной дышал, болталась лампа «летучая мышь», освещая иней на потолке и стенах. Поблескивали металлические части радиостанции, около которой мирно похрапывал Кренкель.
Отто Юльевич зашевелился. Может, начинается очередная подвижка?
За стеной палатки послышались шаги дневального, который ходил вокруг лагеря с винтовкой. Если он не поднял тревогу, можно полежать.
Шмидт отогнал от себя видение парохода.
«Самое важное время — сия минута, и самое важное дело — это то, которое делаешь сейчас, — подумал он. — Итак, продумаем все дела на сегодня».