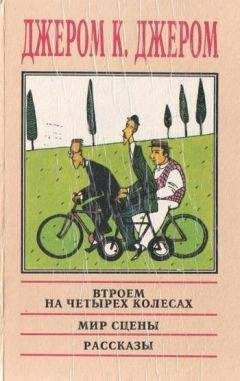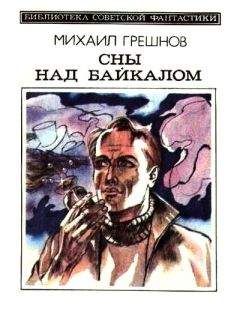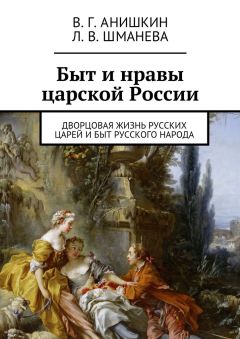Дмитрий Стахеев - За Байкалом и на Амуре. Путевые картины
Кроме этого камня, говорят, выбрасываются из озера обломки желтоватого опала, зерна кварца, горного хрусталя, куски зеленой и красной яшмы, темно-коричневого порфира, бледно-зеленого аквамарина, изумруда и проч. и проч. Из утесов местами вытекает морской воск и естественное купоросное или горное масло. Это последнее в особенности добывается бурятами вблизи одного улуса, называемого Курма, и в скалах тажерянских. На склонах, обращенных к баргузинской или турканской стороне, встречаются глинистые железные руды.
Вода Байкала холодная, пресная и при тихой погоде прозрачная почти на девять сажен глубины; она содержит в себе, по химическим исследованиям, несколько растворенной извести.
Морской воск в тихую погоду плавает по поверхности воды, а во время бурь выкидывается на берег от верхней Ангары на юго-восточную сторону Байкала. Вид этого воска темно-коричневый. В музее императорской Академии наук есть кусок его, доставленный, кажется, Палласом в 1770 году. Он называется иначе — асфальт; в Сибири он мало известен и только около Байкала старухи-знахарки лечат им больных. Как они открыли в асфальте свойства исцелять человеческие немощи, на чем основали это открытие — Бог знает, а говорят, лечение это действительно оказывает пользу в ревматических болях.
Прибрежные жители до сей поры не могут придумать, что бы им делать с байкальским асфальтом; для освещения он неудобен тем, что при горении отделяет очень много дыма, а более применить его не знают к чему. Иногда какой-нибудь самородок химик из туземцев смотрит на растопленный асфальт и толкует своим товарищам, что этот асфальт есть тот, значит, самый керосин, который американцы приготовляют. Товарищи сомнительно покачивают головами, химик доказывает и обещает в будущем от байкальского асфальта большие барыши. Но химические опыты туземного химика на том и оканчиваются[2].
Другое дело горное масло. Оно употребляется с большою пользой при лечении простых и кровавых поносов у людей, в повальных болезнях у скота и, кажется, вполне может заменять купоросную кислоту и масло; но, к сожалению, собирается оно в весьма малом количестве и потому продается от 4 до 5 рублей за пуд.
II
Во время моего продолжительного пребывания в Забайкальской области, мне много раз случалось переезжать Байкал во все времена года.
В первый раз я отправился из Иркутска в Забайкалье осенью в 1859 году. В холодный и ветреный день подъезжала моя повозка к Лиственничной пристани. Был ноябрь в половине, время, в которое байкальские пароходы, старый ветеран Байкала «Наследник Цесаревич», впоследствии так печально окончивший свое существование, и два новых: «Генерал Корсаков» и «Граф Муравьев-Амурский», — оканчивали свои обязательные рейсы и плавали по озеру смотря по погоде и по количеству грузов, следовавших через Байкал.
Несмотря на 25° мороз и на позднее время осени, река Ангара не была еще покрыта льдом, — над ней носился густой пар и, широко расстилаясь в морозном воздухе, обдавал собою мою повозку и замерзал снежными пылинками на платье. Мы подвигались вперед, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз по каменистым холмам горной подошвы; чем ближе подъезжали мы к Лиственничной пристани, тем холоднее и порывистее дул ветер, тем яснее долетал до нашего слуха глухой шум волн Байкала. Вдали показалось небогатое прибрежное село, с деревянною церковью, послышался стук топоров: на берегу шла работа, строили судно; ехали далее и опять видели строящиеся суда; у берега стояли тоже суда, короткие, высокие, имеющие замечательно уродливую форму. Поморы называют их «кораблями», несмотря на то, что эти корабли хуже самого последнего волжского судна.
Суда эти, как видит читатель, по размерам, весьма уродливы и напоминают китайские постройки, нет только той вычурности и фигурности, как у китайцев[3].
В одной версте от селения Никольского находится пароходная пристань, называемая Лиственничной. Это название присвоено ей от прежнего зимовья, находившегося на месте настоящей пристани и носившего, в свою очередь, это название от лиственничного леса, растущего на прибрежных горах.
На берегу Байкала, у подножья горы, поросшей этим лесом, прилепилось двухэтажное здание гостиницы. Ближе к селению Никольскому в стороне от дороги лежало много лесу, приготовленного для новых построек. Из этого леса должны были выстроиться новые гостиницы в pendent к новым пароходам. Но пока, в ожидании новых гостиниц, нужно было остановиться в старой, несмотря на все ее неудобства.
Построена она вероятно с того времени, когда пароход в первый раз пошел по Байкалу, следовательно — лет двадцать назад. Пароход был предшественник «Наследника Цесаревича» и он, кажется, сгорел — так по крайней мере мне не раз случалось слышать. Несмотря на то, что гостиница построена не ранее сороковых годов настоящего столетия, но она казалась ветхим старцем: окна в верхнем этаже были местами повыбиты, ставни большею частью переломаны и остатки их, повиснув на ржавых петлях, скрипели и выли на разные тона, аккомпанируя шуму волн Байкала.
Состарилась ли гостиница от осенних ветров, обдувающих ее со всех четырех сторон, или уходили ее заботливые попечители, доверенные и управляющие, — не знаю, да и не подумал бы об этом, если бы только беспорядочный и угрюмый вид ее не производил такого тяжелого и мрачного впечатления.
Внутренность дома соответствовала его наружному виду: стулья переломаны, столы о трех ножках, диваны с оборванной и висящей клочьями обивкой, кресла без ручек и часто без спинок; никогда не мытый пол, кривые, дырявые доски, углубляющиеся под ногами, как фортепьянные клавиши; в стенах щели, в которые с визгом врывается внутрь дома резкий осенний ветер… и т. д.
Все это доказывало, что о тех, для кого построена гостиница, никто никогда не заботился да и заботиться не считал нужным: гостиница одна, конкуренции ждать неоткуда; приехал к пароходной пристани, так волей-неволей мирись с тем, что есть, не мудрствуя лукаво.
Бразды правления этой гостиницей находились в руках какого-то отставного солдата, у которого в буфете кроме водки и солонины ничего не было.
— Самовар, если угодно, поставить можно… — послышалась нам его первая фраза.
— А закусить бы чего-нибудь?
— Закусить? Отчего же?.. Можно, пожалуй, солонины подать…
— А еще что?
— Огурца соленого можно принести. Омуля, если хотите… водки… Сколько подать-то?
— Да неужели у вас ничего больше нет?
— Как ничего нет? Я говорю вам, солонины можно, омуля, огурца…