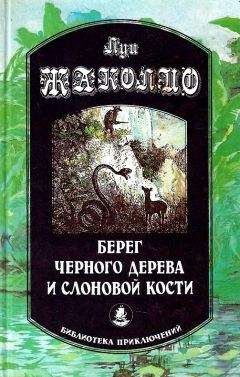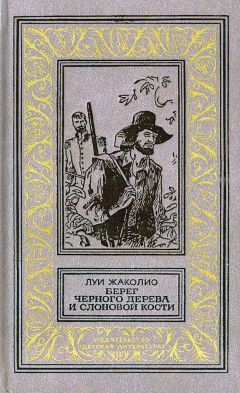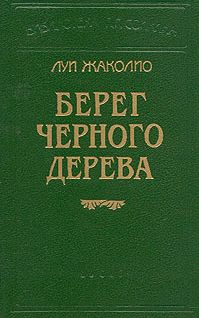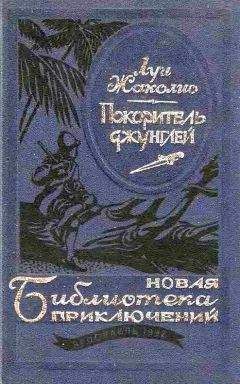Луи Жаколио - В трущобах Индии
Для Барбассона это была невозвратимая потеря, ибо, как он сам говорил, во всем мире не найти двух столь сходных людей, если не считать небольшой разницы вследствие того, что один был провансалец, а другой янки. И действительно, оба они еще с детства протестовали против той бесплодной потери времени, к которому принуждает нас коллегия под предлогом обучения.
— И к чему это служить? — с видом философа говаривал Барбассон, когда они беседовали на эту тему.
— Nothing! (Ни к чему) — отвечал Барнет.
Оба в возрасте шестнадцати лет были выгнаны своими отцами с помощью пучка веревок; оба изъездили весь свет и испробовали все ремесла и профессии; оба потерпели неудачу после того, как Барбассон в Маскате без боли выдернул зубы имаму и был за это назначен адмиралом, а Барнет в Ауде исполнил роль паяца, рассмешив набоба, который не смеялся двадцать лет, и получил чин артиллерийского генерала. Случай соединил этих двух людей, созданных друг для друга, но смерть, бессмысленная смерть, которая всегда поражает лучших людей, — разъединила их.
Печальный конец Барнета спас Барбассона, и пламенное, южное воображение последнего внушило ему мысль, что смерть эта была добровольное самопожертвование для спасения друга. Надо было послушать, когда он рассказывал эту печальную историю.
— Так-с, друзья, мы оба попали в тесный желоб тридцати трех квадратных сантиметров в поперечном сечении; ни вперед тебе не двинуться, ни назад и даже не пошевельнуться… Мы уже чувствовали запах кобр, которые шли на нас. «Пусти меня вперед, — говорит мне тогда Барнет, — пусть смерть моя спасет тебя». И он сделал, что сказал, бедняга! И вот теперь я здесь…
И слезы начинали капать с ресниц Барбассона. Воспоминание это сделалось до того священным для Барбассона, что он ничего не говорил и не делал, не подумав о том, как бы поступил Барнет при подобных обстоятельствах. Барнет был его законом и пророками, и это являлось тем более странным, что при жизни янки оба неразлучника вечно спорили друг с другом… Правда, после смерти Барнета Барбассон приписывал все свои мысли последнему, так что все шло хорошо и согласно.
Барбассон начинал скучать в Нухурмуре; провансалец утверждал, что Барнет после отъезда Сердара не остался бы и двадцати четырех часов в пещерах, и не проходило дня, чтобы Барбассон не заявлял, что напишет Фредерику де Монморену и будет просить прислать заместителя на свое место.
Увы! Это был уже не тот бесстрашный Барбассон, которого мы знали, всегда готовый принять участие в заговорах, сражениях, в героических похождениях, — и вот почему Сердар, заметивший эту перемену из писем, которые получал в Европе, не нашел возможным призвать его к себе по приезде и дать ему какую-нибудь роль в большом заговоре Беджапура.
Барбассон думал теперь о благах земных, говорил, что англичане прекрасно делают, желая сохранить Индию, он, словом, сделался консерватором с тех пор, как Нана-Сагиб подарил ему в награду за услуги целый миллион звонким бенгальским золотом.
История свидетельствует, что благосостояние и богатство изнеживают народы, — и Барбассон подтверждал это правило. Его тянуло вернуться в Марсель, прогуливаться в Канебьере и слушать, как говорят:
— Смотри-ка, милый мой, ведь это наш Мариус, сын дядюшки Барбассона, рабочего на блоках… Он видно нажил деньжат у турок!
Ему хотелось поглядеть, как будут лопаться с досады его двоюродные и троюродные братцы, любимцы коллегии, которые сделали карьеру по судебной части и получают всего две тысячи четыреста франков жалованья… Нет, Барнет на его месте давно бы махнул домой, а он, Барбассон, будет очень наивен, если не поступит, как Барнет. Но — терпение! Следующая почта принесет ему отставку.
Он был настолько осторожен, что перевел свой миллион во Францию через посредство банкирской конторы в Бомбее и поручил своему нотариусу купить прелестную виллу по соседству с Бланкардом, где он воспитывался у кормилицы. Он предполагал кончить свои дни мирным землевладельцем с воспоминанием о Барнете и искусной кухаркой, которая будет вполне угождать его гастрономическим вкусам.
В ожидании часа своего освобождения он заботился о хорошем столе в Нухурмуре и пристрастился к рыбной ловле на озере, где он совершал чудеса. Хотя он был собственно новичком в этом спорте, но ввиду того, что имел дело с рыбами, которые не умеют защищаться против хитрых измышлений человека, легко ловил их на приманку.
Нана-Сагиб, который ничего больше не боялся после трагического конца Максуэлла и исчезновения Кишнаи, был настолько хорошо охраняем своим отрядом, что начал также выходить из своего убежища и, находя общество Барбассона очень приятным, сделался также страстным рыболовом. Вот уже несколько дней, как они сидят каждый день, молчаливые и неподвижные, на берегу озера, терпеливо ожидая среди мирных занятий, когда Сердар пришлет им известие о себе.
Фредерик де Монморен давно уже знал, что Нана-Сагиб, несмотря на замечательное мужество, с каким он вел свои войска, подвергая опасности свою жизнь, не имел качеств, необходимых для заговорщика. Поэтому он тщательно скрывал свое возвращение от принца, решив предупредить его только в самую последнюю минуту, из опасения какой-нибудь неосторожности с его стороны.
— На коня, Нана! — скажет он ему в один прекрасный день. — Вся Индия восстала, и мы начнем снова!
Он был уверен, что найдет в нем героя знаменитой битвы на равнине Джуммы.
Молчание друга очень удивляло Нана-Сагиба; сдержанный, как все люди востока, он никогда не выказывал беспокойства. Но вот в один прекрасный день он получил тайное сообщение общества «Духов Вод», приглашавшее его быть готовым на всякий случай, не говоря ничего окружающим, так как Декан готовится сбросить с себя иго; оно уведомляло его также, что делегация от Верховного Совета явится за ним, когда наступит время стать во главе восстания.
Это Кишная подготовил свои сети. Однако, спустя несколько времени, Арджуна, настоящий браматма, прибыл в Нухурмур, куда его проводил сын Анандраена; он подтвердил это, прибавив также, что ждет возвращения Сердара. В этот день все торжествовало в Нухурмуре, и Барбассон, посоветовавшись по своему обыкновению с памятью Барнета, объявил, что лучше сто раз начинать борьбу, чем продолжать вести уединенную жизнь, на которую их обрекли. А про себя провансалец говорил: «Я уверен, что Барнет, став миллионером, направился бы на первом пароходе, отходящем в Европу, — единственном месте, где можно спокойно наслаждаться своим состоянием. А если Барнет так поступил бы, то почему и мне не поступить так же? Ведь Барнет был олицетворение честности. К тому же Нана дал мне этот миллион в награду за мои услуги, — мы, значит, квиты, и я свободен».