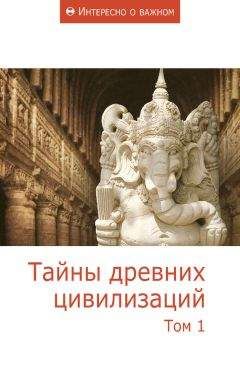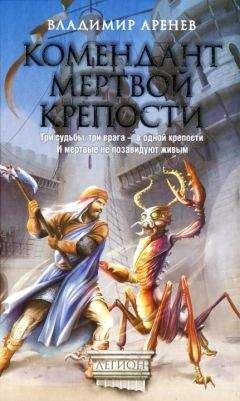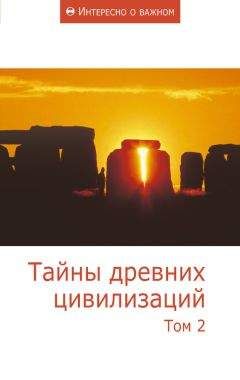Тихон Пантюшенко - Тайны древних руин
Не, Сымон, не, дараженьки, выйди ды паглядзи на зорачки, панюхай свежага паветра, там, глядзи, и сон пройдзе.
—Вот же полесский репейник, не даст человеку отдохнуть. Ну ладно, Михась, следующий раз я разбужу тебя минут за сорок. Не обижайся потом.
—Дзивак ты, Сымон,— ответит Лученок.— Разбудзи мяне своечасова, я в тую ж хвилипу прыму ад тябе змену.
С трудом, но все же удалось разбудить Звягинцева. Еще минут пять ему потребовалось для того, чтобы прийти в себя и принять дежурство. Разобрав постель, я юркнул под одеяло и тотчас заснул.
4
Мне показалось, что я не спал и двух часов. Раскрыв глаза, я не мог понять, в чем дело»
—Вставай,— теребил за одеяло Звягинцев.— Командир приказал тебе принести анодные батареи.
—Какие батареи?— не мог я понять.
—Анодные.
—Откуда?
—По рации передали, чтоб встретили дивизионный мотоцикл. Он везет нам анодные батареи и продукты.
—Сейчас же только пять часов утра. Кто поедет в такую рань?
—Это ты Спроси у начальства. Ему виднее, когда посылать.
—Я же недавно сменился. Почему не Лученка?
—Командир сказал, что пойдет тот, кто сменился. А Лученку заступать.
Но делать было нечего. Приказ есть приказ, и его надо выполнять.
—Ну и порядочки.
Надев робу и зашнуровав ботинки, я неторопливо пошел вниз по направлению к дороге на Балаклаву. Вспомнился странный сон, увиденный этой ночью. Будто я стою в конце виноградника, а рядом со мною— Маринка. Береговой бриз шелестит колючими ветвями барбариса, а там, внизу, в ночной мгле все шумит и шумит море. Повернулась ко мне лицом Маринка, приложила палец к губам и сказала: «Спрашивай, но тихо, чтоб не услышали добруши». Я силюсь спросить Маринку, почему она многое скрывает от меня, и не могу, никак не могу открыть рта. Смеется Маринка, но тихо, будто это шелестит ветер. А потом обвила меня руками за шею и говорит: «Люб ты мне, а вот любить тебя мне нельзя».— «Почему?»— хочу спросить ее и по-прежнему никак не могу открыть рта. Маринка опять приложила палец к своим губам и так постепенно и исчезла, словно в тумане растворилась.
В одном месте, по дороге к Балаклаве, я споткнулся и чуть было не упал. А падать в этих каменистых местах опасно: можно шею свернуть. Стряхнув с себя дремоту, я пошел осторожнее. Окраина Балаклавы была пустынной, дорога— безлюдной. «Где же мотоцикл? Может, не успел приехать, подожду». Прошло добрых полчаса, а на дороге со стороны Севастополя так никто и не показался. Скрипнула дверь в первом доме, и во двор вышел седой старик.
—Доброе утро, молодой человек.
—Доброе утро, дедушка.
—Рановато тебя подняли.
—Служба, ничего не поделаешь.
—Известное дело. Служба, как и время, не ждет. Как-никак, а сегодня уже первое апреля.
«Идиот! Круглый идиот!— мысленно выругал я себя.— Как же я не догадался сразу? Поверил. И кому? Звягинцеву. Да у него ж на лице было написано, что врет. «Командир сказал...» А ты сразу и уши развесил. И поделом. Так тебе и надо, простофиля». Чтобы не показать, что я и в самом деле остался в дураках, я сделал вид, что кого-то увидел на дороге и быстро пошел в направлении Севастополя. Пройдя метров пятьдесят, свернул вправо и быстро зашагал в гору. По тому, как встретили меня вахтенные, я понял, что Звягинцев уже успел рассказать о своей проделке Сугако. Оба с серьезным видом спросили меня:
»А продукты где?
»Ну продукты— ладно, перебьемся как-нибудь,— продолжал издеваться Звягинцев.— А вот как быть с анодными батареями? Рация— такое дело: есть питание— работает, нет— не работает.
«Тихоня, тихоня, а туда же»,— подумал я о Сугако.
—Без продуктов тоже нельзя,— заметил Сугако.
У него было очень странное, до сих пор неслышанное мною имя— Елевферий. Мне казалось, что он из семьи сектантов, каких-нибудь пятидесятников или адвентистов. Большей частью молчаливый, Елевферий, однако, пытался отстаивать свою точку зрения, когда речь заходила о каких-либо предрассудках. «Нет, вы мне скажите,— спрашивал Сугако,— почему люди верят в судьбу?»— «Это ж в какую такую судьбу?»— в свою очередь спрашивал Лев Яковлевич.— «А в такую».— «Ну вот ты, например, веришь?»— «Верю».— «Можа, ты и в бога верыш?»— вмешивался в разговор Лученок. Сугако еще больше поджимал нижнюю губу, так что ее почти не видно было из-за нависавшей верхней, и приглушенно говорил: «А это тебя не касается».— «Верыть, браточки, ей-богу, верыть». Елевферий мрачнел и взгляд его становился тяжелым, нелюдимым. «Нэ чипай, хай йому бис»,— заключал Музыченко. После этого никто не хотел продолжать начатый разговор.
—Ну и сукин же ты сын, Звягинцев. Мало того, что сменил меня на полчаса позже, так ты, ни свет ни заря, погнал меня еще и за анодными батареями.
—А при чем тут я? Это командир сказал.
—Командир сказал,— передразнил я его.— Вот проснется он, узнает о твоих проделках да всыпет по первое число, тогда закажешь и пятому.
—Думаешь, если ты его дружок, то тебе все можно?
«Скажет же такое— «дружок». Знал бы ты, Звягинцев, какой я ему дружок— не захотел бы ты быть в моей шкуре»,— подумал я и добавил вслух:
—Шутить, Сеня, можно и, наверное, нужно, когда это к месту, но не так грубо,— уже спокойно ответил я Звягинцеву, укладываясь в постель.
—Вот люди,— слышал я сквозь дремоту.— Шуток не понимают. Для чего тогда придумано первое апреля?
—Такие люди завсегда обижаются,— басил Сугако. Проснулся я от того, что меня опять кто-то дергал за плечо.
—Вставай. Командир сказал, чтоб ты шел за анодными батареями.
—Вы что, с ума посходили? Думаете, если сегодня первое апреля, то можно издеваться над человеком весь день? Хватит с меня, ни за какими анодными батареями я больше не пойду,— ответил я и снова улегся в постель. Не успел я задремать, как услышал крик:
—Встать, разгильдяй!
Я открыл глаза, но не сразу понял, кто и что от меня требует.
—Приказано встать!— повторился крик, и Демидченко сорвал с меня одеяло.
Я вскочил как ошпаренный.
—Вы почему не выполняете приказание?
—Товарищ старшина второй статьи,— разозлился и я, махнув на все рукой.— Может, уже хватит?
—Что хватит?
—Издеваться над человеком.
—Кто же над вами издевается?— тон у командира был спокойный, но за этим кажущимся спокойствием ощущалась надвигающаяся гроза.
—Вначале Звягинцев, а теперь еще один шутник выискался,— и я рассказал собравшимся, а собрались все, историю с анодными батареями.
Долго после этого раскатывалось эхо гомерического смеха. Казалось, что наша гора— Олимп, а все собравшиеся— боги. Я же— простой смертный, случайно оказавшийся среди богов. Смеялись все, и не миновать бы мне еще двух нарядов вне очереди, если бы смог удержаться от смеха и сам командир отделения.