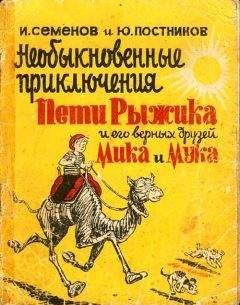Рувим Фраерман - Жизнь и необыкновенные приключения капитан-лейтенанта Головнина, путешественника и мореходца
— Лучше убейте нас, но не мучьте таким способом! Аррао-Тодзимано-ками ответил на это со своей обычной ласковостью:
— Пусть капитан Хаварин не сердится. Японцы не хотят принуждать русских к ответам. Они спрашивают их только как друзей.
И снова стал задавать свои бесчисленные вопросы. Узнав, что Мур умеет хорошо рисовать, он попросил его нарисовать царскую шляпу. Потом спросил: какие птицы водятся около Петербурга? Что стоит сшить в России такое платье, как на пленниках? Из какой шерсти делают сукно в Европе? Из овечьей? А какая она, эта овца? Овец совсем нет в Японии. Пусть господин Мур нарисует овцу.
Затем губернатор попросил, чтоб Мур нарисовал ему русскую лошадь, мула, осла, коала, карету, сани.
Иногда он спрашивал, сколько портов в Европе, сколько кораблей. В ответ можно было назвать любое число, но тогда следовало хорошенько его запомнить, ибо японцы все ответы тут же записывали своими кисточками.
Много хлопот доставили вещи и книги, свезенные Рикордом на берег. Приходилось рассказывать, из чего каждая вещь сделана, где стоит — дома, в Петербурге, или в каюте на корабле и для чего она служит. Но особенное беспокойство доставил Головнину обыкновенный учебник физики, оказавшимся среди его книг. Аррао-Тодзимано-ками во что бы то ни стало захотел узнать, хотя бы вкратце, основы физики и законы солнечного света.
«Ужели и этого не знают даже столь просвещенные люди в Японии, как Аррао-Тодзимано-ками? — удивился Василии Михайлович. — Как же мне это объяснить, не зная их языка?»
В конце концов пришлось законы преломления солнечного луча объяснять при помощи дикого курильца Алексея.
Но как ни странно, буньиос понял объяснение Головнина, не выразив особенного удивления перед чудесными законами естества. Выслушав все, он спросил:
— А сколько пушек стоит во дворце вашего императора?
— Ни одной, — ответил Василий Михайлович.
И тут изумлению Аррао-Тодзимано-ками не было границ. Он долго качал головой, потом сказал:
— Это очень большая неосторожность со стороны русского государя!
Василий Михайлович в ту минуту от души и громко посмеялся над словами просвещенного буньиоса. А позже Мур заметил ему по поводу этого весьма мрачно:
— Не следовало бы вам, Василий Михайлович, смеяться в лицо столь важному человеку. Народ сей странен и внушает мне немалый страх.
— А мне нисколько, — отвечал Головнин. — Что с вами. Федор Федорович? Я знал вас офицером, не ведающим страха в море. Что же вам здесь может угрожать, кроме смерти?
— Есть вещи и хуже смерти, — сказал вдруг Хлебников.— Это вечная неволя...
— Вот это правда! — согласился с ним Головнин. — Сего страшиться нам надо, а не смерти.
Глава тринадцатая
ТОМИТЕЛЬНЫЕ ДНИ
Потянулись томительные, долгие, однообразные дни плена.
В октябре выпал снег и лежал теперь не только на горах, но и во дворе тюрьмы, у высоких земляных валов и частоколов оксио. Однако ни холод, от которого часто страдали узники в своих тесных клетках, и ни вечная полутьма, царившая в тюрьме, где горели только светильники с рыбьим жиром, и ни веревки, которых все еще не снимали с узников, когда водили их по улицам на допрос, не причиняли Василию Михайловичу столько страданий, сколько мысль, неожиданно высказанная в минуту отчаяния всегда тихим и терпеливым штурманом Хлебниковым: вечная неволя!
И чем ласковее становился буньиос Аррао-Тодзимано-ками, одаривавший пленников то рисовыми конфетами, искусно сделанными в виде рыбок я морских ежей, то ларцами, искусно покрытыми разноцветными лаками, тем чаще Василий Михайлович думал о бегстве. Думал он об этом пока наедине с собой.
В одну из ночей, когда сон бежал от его глаз, за стенами оксио раздались удары бронзового колокола, и по всему городу поднялся резкий треск барабана. Василий Михайлович соскочил со своей жесткой постели и бросился к дверям клетки. Колокола звонили в разных местах города, в их звоне звучала тревога. Треск барабанов становился все оглушительнее. У решетки появилась охрана.
Василию Михайловичу показалось, что наступила ночь их казни.
Но Кумаджеро, прибежавший вместе со стражей, пояснил, что это пожар, который до оксио не дойдет. Однако в щелях здания показался свет.
— Разве весь город горит? — спросил Головнин.
— Нет, — ответил Кумаджеро, — зачем весь город? Два дома горят. Но наши жители очень боятся пожара. Однако это ничего, — добавил он как бы в утешение. — Мы берем свои кимоно, чашки, цыновки и даже стены домов, которые у нас раздвигаются, и уносим подальше, к знакомым. Сегодня мы горим, а завтра опять живем в новом доме.
Василий Михайлович посмеялся над своей тревогой и снова улегся на жесткую постель, стараясь заснуть, так как завтра предстояло много потрудиться. Вот уже больше недели, как он вместе с Хлебниковым и Муром, по желанию буньиоса, составляют бумагу для императорского правительства в Эддо, в которой подробно излагается дело русских пленников и история появления Хвостова у берегов острова Итурупа, поскольку это было им ведомо.
То была нелегкая работа. Писать приходилось, выбирая лишь такие слова, какие могли перевести Кумаджеро и курилец Алексей, которому в эти дни было разрешено посещать русских в любые часы. Но пленники больше не доверяли ему и старались говорить при нем таким языком, чтобы курилец их не понимал, для чего часто употребляли иностранные слова.
Но сколь ни темен был этот дикий охотник, он скоро заметил это. Странная перемена вдруг произошла в нем. Обычно невозмутимое и спокойное лицо курильца все чаще являло признаки сильнейшего волнения. Однажды он сказал Василию Михайловичу с большим огорчением:
— Капитана, зачем от меня хоронишься? Разве я не такая человека, как русские? Я не хуже всякого русского знаю бога!
Василий Михайлович был крайне удивлен. Он часто думал об этом тихом, запуганном человеке, лишившемся дома и семьи вместе с пленниками. С большим смущением Василий Михайлович выслушал его горестные слова, не зная, что отвечать, ибо в одно и то же время он не хотел обидеть Алексея» может быть, незаслуженным подозрением и боялся быть с ним откровенным.
— Что с тобой, Алексей? — спросил его Головнин. — Ты же сам сказал японцам, что русские подослали ваших курильцев на Итуруп выглядывать и высматривать.
— То неправда! Пускай меня японцы мучают, пускай голову рубят, но я на правде стоять буду, капитана! — воскликнул он вдруг. — Сколько мне жить на земле: десять лет, двадцать лет или одна года? Это ничего не стоит. Шибко нехорошо будет, если душа моя не пойдет на небо, а будет болтаться где попало на свое мученье. Пиши, пожалуйста, на свою бумагу, как я сказал.