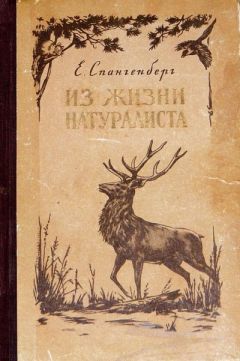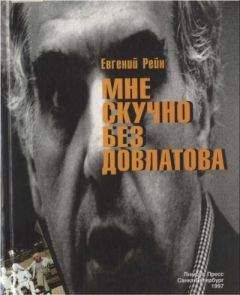Евгений Спангенберг - Заповедными тропами
Многие птицы хорошо поют, доставляя этим удовольствие своим владельцам. Ради пения их часто держат в неволе. Но какой интерес держать вальдшнепа, тем более что этот кулик ведет сумеречный и ночной образ жизни? Мой новый питомец был до крайности молчалив и только в минуты беспокойства, да и то не всегда, издавал короткое своеобразное покрякивание. И все же вальдшнеп был для меня во много раз интереснее канареек моей матери, наполнявших весь наш дом своим пением. Я поместил его в светлой пустой комнате. Часть ее пола была устлана душистым сеном, здесь же стояли низкие, наполненные землей ящики с зеленью, вдоль стен и у окна помещались крупные сухие деревья. Помимо вальдшнепа, здесь жил однокрылый перепел, совершенно ручной полевой воробей и две синички.
Наученный горьким опытом, я очень боялся за жизнь своего питомца и при его кормлении первое время придерживался самых строгих правил. Пока вальдшнеп вполне не окреп, я кормил его через каждые полчаса, но давал ему такие маленькие порции сырого мяса, что они не могли утолить голода. С жадностью проглотив крошечный кусочек, птица доверчиво тыкалась своим длинным клювом в мои руки, буквально выпрашивая новую подачку.
Но я был непоколебим в соблюдении правил и спешил уйти из комнаты.
Спустя две недели вальдшнеп стал совершенно ручной птицей. К этому времени я уже отбросил излишние предосторожности и два раза в день кормил его досыта. Фомка — так назвал я своего питомца — отлично знал время кормежки.
Бывало, чуть забрезжит поздний зимний рассвет, а я уже в комнате своих пернатых любимцев. Врастяжку ложусь на пол, ставлю перед собой широкую низкую банку с кормом и прикрываю ее ладонью. С моим появлением проголодавшийся вальдшнеп покидает излюбленный уголок за ящиком с зеленью и доверчиво, вперевалку идет к кормушке. Но доступ к корму прикрыт моей рукой, и, чтобы до него добраться, Фомка поспешно просовывает свой длинный клюв между пальцев моей руки и один за другим извлекает из кормушки кусочки мяса. В эти моменты я безнаказанно поглаживаю его спинку.
Но вот Фомка утолил свой голод и, уютно усевшись в уголке, предался дремоте.
— Перестань спать, увалень, — бесцеремонно толкаю я его пальцем в бок, — ведь целый день впереди.
Фомке не нравится моя фамильярность. Сначала он вяло защищается от моей руки и вдруг, выйдя из сонливого состояния, переходит к активному нападению. Видимо не надеясь на слабый, мягкий клюв, Фомка издает смешные крякающие звуки, взъерошивает оперение и бьет мою руку крылом, как голубь.
Интересно, что в течение всей зимы Фомка ни одного раза не пытался взлететь на крыльях. «Неужели он калека?» — думал я и однажды, желая проверить свою догадку, подбросил вальдшнепа в воздух. Беспомощно раскрыв крылья, Фомка шлепнулся на сено и торопливо ушел в свой угол. После этого неудачного эксперимента я вполне уверовал, что по непонятной для меня причине Фомка потерял способность к полету. Пожалуй, я был даже рад этому. Ведь после суровой зимы придет весна, и будет жалко держать здоровую птицу в неволе. Другое дело — птица-калека. Выпусти ее на волю — она все равно погибнет. Пусть же Фомка живет на моем попечении.
В том году зима затянулась. В марте бушевали метели, как на севере. После них установились морозы, звонко скрипел под ногами снег, и казалось, не будет конца холоду. И вдруг прорвало.
Бурная весна, не оглядываясь, шагала вперед, обнажая почву, превращая сугробы снега в широкие лиманы; в них отражались белые облачка, плывшие в голубом небе. Долго, где-то южнее нас, пережидали перелетные птицы весеннее ненастье и вдруг сорвались с места и неудержимо повалили к северу. Душистый степной воздух сразу наполнился бесчисленными голосами. С гоготом летели вереницы гусей, свистя крыльями, их обгоняли стаи уток, пели жаворонки, где-то кричал чибис.
Празднуя победу, запоздавшая весна особенно ликовала.
Прошла неделя; наступили теплые, даже жаркие дни, зазеленела трава, на деревьях лопались набухшие почки.
Однажды, войдя в комнату, я понял, что мне пора расстаться со своими зимними питомцами. Обе синички и полевой воробей беспокойно перелетали с места на место, заглядывали сквозь стекло наружу.
Полчаса спустя я выставил вторую оконную раму и, с трудом отодвинув засовы, распахнул окно настежь. Бодрящий свежий воздух вместе с весенним гомоном ворвался в комнату и в первый момент, видимо, оглушил, испугал мое птичье население. Однокрылый перепел, пытаясь взлететь, несколько раз подпрыгнул в воздух и шлепнулся на пол. Фомка забрался в самый темный угол комнаты.
Много времени прошло, пока наконец обе синицы и воробей решились воспользоваться открытым окном и вылетели наружу. Но зато как пели мои синички, перелетая по ветвям ближайшего дерева! Такого звонкого и веселого пения я не слыхал у них ни разу.
Уже темнело, когда я вновь зашел в птичник, чтобы покормить своих питомцев. После долгого пребывания в саду мне показалось здесь особенно душно. Я открыл окно и, удобно усевшись на сено, поставил на пол чашку с кормом.
Как и обычно, смешной Фомка топтался вокруг меня, толкал мои руки своим теплым клювом и, наконец добравшись до съестного, с удовольствием глотал один за другим кусочки мяса.
Но вдруг вальдшнеп перестал есть и насторожился. Быть может, его поразил какой-нибудь звук или он заметил пролетевшую мимо окна птицу. Он как-то весь подтянулся, его оперение плотно прилегло к телу, крылья слегка вздрагивали. Желая подразнить своего любимца, я толкнул его в бок пальцем. Но вместо того чтобы защищаться или уйти в свой уголок, Фомка неожиданно взлетел на воздух. Одно мгновение птица билась под потолком комнаты, затем ловко нырнула в открытое окно и вылетела на волю.
В следующие секунды я видел, как вальдшнеп пересек наш сад, взмыл вверх над большими деревьями и, наконец, как бы растаял в вечерних сумерках. Прощай, Фомка! Долго стоял я в раздумье у окна, смотрел на угасающую зарю, вслушиваясь в неясные звуки весеннего вечера и вспоминая Фомку.
— Прощай, смешной Фомка! — Я закрыл окно и уселся на подоконник.
В комнате совсем стемнело и было безжизненно тихо. Только на белой стене неясно маячила маленькая сгорбленная фигурка перепела. Однокрылая птица суетливо бегала вдоль стенки туда и обратно, издавая тихие звуки и шелестя сеном. Что-то сиротливое и гнетущее было в этих неясных звуках. И вдруг нервы мои не выдержали. Невыносимое чувство жалости и обиды заполнило мое сердце. Мне было обидно, но не за улетевшего Фомку, не за свое одиночество. В этот праздник весны до слез мне стало жалко моего бедного бескрылого перепела.