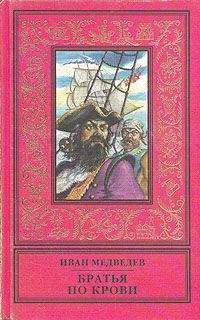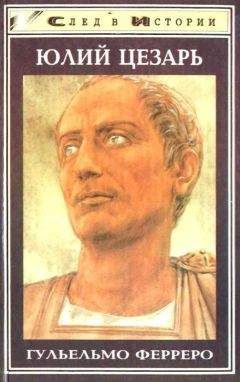Геннадий Гусаченко - Покаяние
Побитым псом, с оторванным хлястиком плаща и фингалом под глазом — достал–таки меня кулак лейтенанта, приплёлся на плавбазу. Порвал письма и приколотую над койкой фотографию Ларисы. Прошла любовь, завяли помидоры!
Я упал в койку и зарылся лицом в подушку. Беззвучные рыдания душили меня, слёзы ручьём текли из глаз, увлажняя наволочку. И до того мне стало жаль себя, что впору пойти и броситься за борт.
Ах, женщины, женщины! Коварные создания! Делаете с нашим братом, что вздумается. Крутите нами и вертите, как хотите. А мы, сильные, смелые, раболепствуем перед вами, стараемся исполнить ваши прихоти. И ради чего?! Только затем лишь, чтобы обладать вами, иметь счастье любить и целовать вас. И если, кто застрелился, подобно несчастному Желткову из рассказа «Гранатовый браслет», кого убили на дуэли, как поручика Ромашова в «Поединке» Куприна, кто сел в тюрьму за подлог, хищения, растрату, изменил Родине, предал своих товарищей как гоголевский Андрий — герой повести «Тарас Бульба» — кто подтолкнул их сделать роковой шаг?
Шерше ля фам!
Ищите женщину!
На «Дальнем Востоке»
Повествованию о незабываемых днях трёхлетней работы электриком на китобойной плавбазе «Дальний Восток» традиционно предваряю дневниковые записи о самосплаве по Оби на Крайний Север, за Полярный круг, к холодному Карскому морю и дальше…
Через пару дней после отплытия из Мужей ночевал на высоком берегу Сосьвы. Собирая сушняк для костра, обратил внимание на выпукло–длинные полосы мха, зеленеющего в пожухлой траве. Ровными сторонами просторного прямоугольника они напоминали основание какого–то строения, от которого остался всего лишь этот никем не тронутый мох. Расковырял его и обнаружил стлевшую сверху, но ещё довольно твёрдую внутри древесину. Лиственница! Сколько же столетий минуло, чтобы влагостойкое, долговечное дерево превратилось в труху?! И что здесь было? Изба первопроходцев–казаков? Скит староверов? Охотничье зимовье? Обитель пустынника? Схрон беглого каторжника?
От нечего делать и гонимый любопытством кладоискателя, сидящего в каждом из нас, я покопал землю топориком под разрытым мхом. Лезвие звякнуло. Камень? Нет. Звук от металлического предмета. Разгребая руками мягкий слой прелой хвои и листьев, сырой глины и песка, я наткнулся на железный стержень с изъеденными ржавчиной крючками и скобами. С трудом выволок непонятную штуковину из–под корней шиповника, обухом сбил с неё перегной и сел передохнуть на мягкий тёмно–зелёный бархат мха. Обыкновенные брёвна, вросшие в землю и покрытые лишайниками, странная железяка, выкованная давным–давно ушедшим из жизни кузнецом, жутко смотрелись на безмолвном речном обрыве, казались совсем не земного происхождения. Эти следы человеческих рук в таком безлюдном и глухом месте земного шара были полны особого и даже драматического значения. Присутствие здесь, в дикой тайге, несколько веков назад каких–то людей, от которых не осталось ни праха, ни имени, потрясло меня. Кто уложил эти брёвна, ныне уже гнилые? Кто бросил или забыл взять непонятный мне железный шкворень, источенный ржавчиной? Куда делись остальные брёвна строения? Быть может, люди разобрали его, построили плот и уплыли вниз по реке? Предположения, догадки…
Заходящее солнце касалось лучами вершин елей, перебирало каждую из них и затерялось совсем в гуще тайги.
Сумерки сгущались. Чернели мрачно–косматые ели, ветер шевелил их разлапистые ветви. В пёстром мареве надвигающейся ночи нудели комары, шумела река, и только тайга угрюмо молчала.
Я стоял будто на заброшенной могиле, случайно найденной в тёмном буреломном лесу. Оторопь знобила тело. Прихватив увесистую железяку, вернулся к воде, где было светлее, и не столь рьяно набрасывались комары. Ножом оскоблил загадочную находку и вдруг понял: держу в руках старинную пищаль! Ну, конечно! Кремнёвое ружьё! Стрельцы Ивана Грозного и казаки Ермака Тимофеевича были вооружены такими пищалями.
Радость находки, которой нашлось бы почётное место в краеведческом музее, однако, быстро угасла.
Куда мне тащить ржавый металлолом?
Ухожу туда, сам не знаю куда, где старинный раритет, никому не ведомый, вновь превратится в ничто, где для меня уже не будут иметь цены ни деньги, ни золото, ни даже бриллианты.
Конец жизни–реки близок, и ещё никому в этом мире не удалось вернуться в её истоки даже за целые горы алмазов.
Поколебавшись минуту–другую, я повесил пищаль на толстый сук молодой ели: авось, найдёт кто–нибудь. Маловероятно, конечно… Кто и когда ещё придёт в эту сонно–дремучую глухомань?
Несколько дней я плыл, находясь под впечатлением человеческого пристанища, давшего о себе знать из глубины веков стлевшими брёвнами и ржавым остовом примитивного ружья. И ещё происшествия, стоившего мне сломанного весла, из–за которого натерпелся страху. Пластмассовая лопатка треснула у основания и слетела с дюралевой трубки в тот самый момент, когда до буксира, толкавшего две махины с песком, оставались две–три сотни метров. Неуправляемая лодка выплыла на фарватер, и течение неумолимо несло меня под баржи. С воплями панического ужаса я бешено молотил одним веслом. Лодка крутилась, постепенно смещаясь вправо, но громадины быстро приближались, зловеще зияя тёмными пространствами между водой и высоко задранными носовыми частями днищ.
«Страх и трепет нашёл на меня, и ужас объял меня».
(Псалом Давида 54, стих 6.)
— Господи! Спаси и сохрани! Господи! Спаси и помилуй! — выкрикивал я в отчаянии.
Совсем рядом, обдавая меня гарью сизого дыма, прогрохотал дизелями речной толкач. Из рубки выскочил капитан, перегнувшись через поручни, глянул вниз. Увидел лодку, человека в ней, сплюнул, головой покачал, что–то нехорошее крикнул мне и скрылся за дверью.
Ранним утром мой резиновый челн прошуршал по галечнику, и я ступил на обетованную землю на окраине Салехарда. В лучах низкого солнца горели мокрые после дождя крыши зеркальных высотных зданий.
Случилось это 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы.
Памятуя о своём чудодейственном спасении на койке реанимационной палаты, когда привиделась мне Богоматерь, воздевшая надо мной руки со свисающими с них покровами одеяния, преклонил я колени на мокрый песок и прочитал тропарь, осеняя себя крестом.
— В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася к жизни вечной, будучи Матерью Иисуса Христа и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша. Величаем Тя Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, и всеславное славим успение Твое.