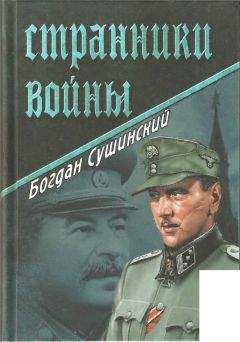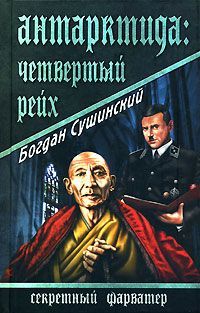Богдан Сушинский - Черный легион
— А чего вы от меня ожидали? — энергично смывал он с лица мыльную пену.
— Вашим парням простительно. Они привыкли иметь дело с уличными…
— Это не уличные, Фройнштаг. Не надо грешить на них. И вообще, насколько помнится, у меня здесь была жена. По крайней мере по документам.
— Вот именно. По документам.
— Кто виноват, что вы так ни разу и не позволили мне воспользоваться преимуществами женатого человека? Каждый раз оставались неприступной, как английская королева.
— О любовных похождениях английских королев вы могли бы знать чуть-чуть побольше, — огрызнулась Фройнштаг. — Это не такая уж тайна. Если, конечно, время от времени заглядывать в библиотеки.
— Что не снимает с вас вины.
— Потому что не позволяю флиртовать с собой? Да, не позволяю. Иначе во что бы я превратилась, находясь среди тысяч и тысяч мужчин, этих ненасытных жирующих самцов? Но если бы вы… — она немного помолчала, подбирая наиболее соответствующие этому случаю слова. — Если бы вы сказали, что у вас возникла, ну… сексуальная потребность… Тогда совсем другое дело.
— «Что у вас возникла сексуальная потребность!..» — громко, по-казарменному заржал Скорцени.
— А что тут такого? Я не так выразилась?
— Представления не имею, Фройнштаг, как бы я решился сказать об этом, да еще такой строгой, насквозь служебной даме, как вы. Просто фантазии не хватает.
— Я тоже офицер, Скорцени. И такой же солдат СС. Не понимаю, в чем вы можете упрекнуть меня.
Аргумент показался более чем странным, и Скорцени вновь расхохотался. Все разговоры с женщинами отныне он будет вести, стоя в соседней кабине душа. В подобном способе знакомства свой неподражаемый — несмываемый — шарм.
— В том-то и дело, унтерштурмфюрер, что вы — солдат. А значит, упрекнуть вас не в чем. И хватит об «итальяшке». Какая может быть ревность между солдатами? Тем более что завтра я вынужден буду оставить вас.
— В Германию? Уже завтра? — встревоженно уточнила Фройнштаг. О Катарине было забыто.
— Приказ. Вы пока что останетесь здесь. Итальянская служба безопасности все еще не проявляет должного интереса к вилле Карпаро, так что можно держаться. У меня же дела.
— Когда же мы увидимся в следующий раз?
— Одному Богу ведомо. Но «женой» моей вы больше не будете — успокойтесь.
Несколько минут они мылись молча. Подтянув под струю плетеный тапчан, Скорцени перекрыл теплую воду и улегся под леденящий душ. Десять минут безжалостного охлаждения — обычная норма закаливания, к которой он прибегал круглый год. В те дни, естественно, когда удавалось добраться до душа или ванны.
Он слышал, как затих шум воды в кабине Фройнштаг. Как, уходя, девушка хлопнула дверью.
Закрыв глаза, Скорцени прислушивался к ее шагам, возрождая в своем воображении лебединую шею Катарины.
«А ведь она раздета и с нетерпением ждет, когда появлюсь, — вдруг вспомнил «самый страшный человек Европы», пытаясь пригасить желание немедленно прекратить эту пытку ледяной водой. — И я зря теряю время. Я и так слишком много потерял его, своего жизненного времени. Жизненного времени… — повторил Скорцени, вслушиваясь в звучание этих слов, в их смысл. — Да, жизненного…» — подметил удачно найденное определение.
32
Вернувшись к себе в комнату, Скорцени обнаружил, что Катарина исчезла. Он приоткрыл дверь в соседнюю комнатку, выглянул в коридор, потянулся было к телефону, чтобы позвонить Кардьяни и выяснить, что произошло. Но в последнее мгновение передумал. Растерянно постояв посреди комнаты, подошел к окну.
Ветер наклеивал на стекла первые снежинки. Мороза не было, и они, сползая, медленно таяли, оставляя на стекле мокрые слезные следы.
«Неужели завьюжит?» — Днем, глядя на озаренный теплыми лучами Рим, Скорцени успел поверить, что итальянцам не суждено знать, что такое настоящая зима. Правда, он, побывавший под Москвой в суровую, даже по русским представлениям, зиму сорок первого, вкладывал в понятие «настоящая зима» совершенно иной смысл, чем тот, который вкладывает в него множество других немцев, знающих зимы по бесконечным саксонским или баварским оттепелям.
Впрочем, у тех, кто побывал под Москвой, тоже… у каждого свои воспоминания, свои ассоциации. Чаще всего в памяти Скорцени возрождалась одна страшная ночь, из декабря сорок первого. Одна-единственная ночь. Даты он не помнит. А жаль. Мог бы отмечать ее как поминальную.
Однажды, после погибельного тяжелого боя, проходившего на небольшом заснеженном лугу, между сосновым бором и болотом, их батальон, вернее, то, что от него осталось, вынужден был отступить в деревню. Вот ее-то он запомнил: Смоле-вичи. Пока бойцы устраивались кто где мог — в уцелевших домах, сараях, развалинах, подвалах — на ночлег, командир батальона вызвал оберштурмфюрера Скорцени и приказал его взводу подобрать и похоронить всех убитых в деревне и ее окрестностях за минувшие двое суток непрерывных боев. Казалось бы, самое заурядное и богоугодное задание из всех, которые ему приходилось выполнять на фронте. Но именно оно наиболее поразило его.
«Поскольку похоронить своих убитых в насквозь промерзшей земле было невозможно, мы сложили трупы у церкви. Просто страшно было смотреть. Мороз сковал их руки и ноги, принявшие в агонии самые невероятные положения. Чтобы придать мертвецам столь часто описываемое выражение умиротворенности и покоя, якобы присущее им, пришлось выламывать суставы. Глаза мертвецов остекленело уставились в серое небо. Взорвав заряд тола, мы положили трупы погибших в образовавшуюся яму…»
Весь ужас той, первой в его жизни «похоронной» ночи отразился в нескольких фразах, которые Скорцени перечитывал каждый раз, как только представлялась возможность заглянуть в свой фронтовой «русский дневник». А заглядывал он в него довольно часто.
Среди погибших было двадцать девять человек из его роты. Отто знал их всех. Это были эсэсовцы еще того, первого, призыва, когда в дивизию «Рейх» действительно отбирались лучшие из лучших. С этими мужественными парнями он с боями прошел Францию, Бельгию, Голландию, воевал в Югославии.
Но там все же происходила обычная война. Люди сражались, побеждали или гибли с достоинством, чувствуя себя воинами. Здесь же, в снегах под Москвой, само существование войск превращалось в мучительное самоистребление, в оледеневший ад.
Те двадцать девять парней, как и десятки других легионеров СС из дивизии — «Рейх», заслужили лучшей участи: достойнейшей гибели и христианских могил. Никогда еще смерть не представала перед ним, «человеком без нервов», в таком бессмысленном, омерзительном виде. Никогда еще холод могилы не был таким пронизывающим и всепоглощающим.