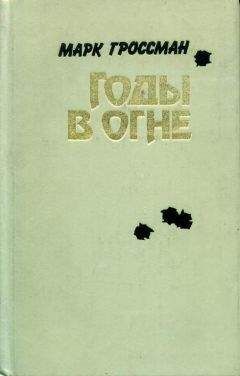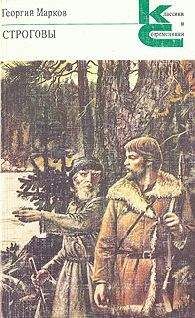Марк Гроссман - Камень-обманка
Он снова налил в корытце спирта, выпил. Наконец почувствовал, что сильно хмелеет, обрадовался этому, ощутил во всем теле необычайную легкость, даже праздничность, будто после удачной баньки.
Бросил взгляд на плошку с медвежьим салом, и пригрезилось: сгорбленный фитилек распрямился, засветил поярче, и колючие хлопья сажи на потолке и стенах теперь похожи на черный бархат, о котором когда-то тоже болел Дикой.
И в эту минуту ему отчаянно захотелось к бабе, к какой-нибудь бабе, чтоб ласкала его, и жалела, и сама требовала ласк, не давая передышки и восхищаясь им.
Он представил себе Катьку, синие ее глаза, и как они горят в любви, — и решил сейчас же, немедля, идти в избу и звать Кириллову с собой, а нет — так изломать ее кулаками, истоптать ногами, может, и полоснуть ножом, чтоб знала, стерва, какой есть закон, когда людям плохо!
Но он тут же усмехнулся, ибо не был уж так пьян, чтоб не понять: его выкинут из зимовья, изобьют, даже пристрелят, как только ударит Кириллову.
Дикой вздохнул и замысловато выругался. Спать ему совсем не хотелось, уже наспал на всю зиму вперед, и Мефодий жалко поморгал целым глазом.
— Живешь — не с кем покалякать, помрешь — некому поплакать…
Он снова стал вспоминать Катьку, как она себя вела, и вдруг решил, что ее холод ничего не значит, потому что не может же она при всех кинуться ему на шею, а так, какая ей разница! — был бы мужик и все.
И он, хмельно усмехаясь и покачиваясь, почти поверил, что Катя непременно придет, придет именно теперь, надо только набраться терпения и подождать.
Он даже стал прислушиваться к застенным звукам, и ему уже чудился осторожный скрип шагов, и легкое покашливание взволнованной женщины, и нерешительный стук в дверь.
Мефодий замер, весь согнувшись дугой, будто превратился в одно огромное ухо, и радость вперемежку с тревогой заполнила все его существо.
Он вздохнул облегченно и нервно, когда и в самом деле в дверь мягко ударили кулаком, не сильно, но и не очень тихо, будто с потягом, чтоб слышал лишь он, Дикой, и никто больше.
Мефодий, возбужденный и довольный до крайности, положил пальцы на засов, спросил хрипло:
— Кто?!
Ему показалось, что женщина там, за дверью, недовольно хмыкнула, точно хотела сказать с язвительностью: «Кто же к те, дураку, еще явится, окромя меня!» — и Мефодий отворил дверь.
В то же мгновение к нему метнулась огромная волосатая лапа с крючьями, и последнее, что Дикой увидел, теряя сознание от жгучей, опалившей все тело боли, были разъяренная харя с жаркой вонючей пастью и безумно-бешеные глаза, слезившиеся от голода.
Медведь вырвал Дикого на снег, схватил одной лапой за спину, другой — за шею, сдвинул лапы — и в тот же миг у человека хрустнули шейные позвонки. Точно отсеченный ножом, оборвался лютый, вовсе нечленораздельный не то крик, не то храп.
В следующую секунду зверь вонзил клыки в тело Мефодия, когтями содрал кожу с его головы и, хмелея от крови и нежданной удачи, с ревом стал мять добычу.
Россохатский первый услышал этот рев. За годы войны он научился при опасности выбрасывать себя из сна, будто пружиной, и одного мгновения хватило, чтобы сгрести карабин и кинуться из зимовья.
За ним, еще ничего не понимая, кроме того, что случилась беда, выскочили Катя, Хабара, Дин.
У баньки, в ясном свете круглой луны, огромный тощий медведь доламывал то, что осталось от Дикого.
Андрей еще на бегу вскинул оружие и, уперев ствол в очертания зверя, нажал на спуск. Тут же передернул затвор, выстрелил снова и, перезаряжая карабин, услышал беспорядочный залп рядом.
Шатун вздыбил, и над ночной онемевшей тайгой пронесся испуганный, злобный, отчаянный вой зверя.
Кинув добычу, медведь метнулся к пряслу и, тяжело перемахнув через него, бросился наверх, к гольцам. Он мчался обычными своими переступами, с виду будто бы неуклюже, а на самом деле полным ходом, держа тело, как всегда, наискось к тому направлению, каким уходил.
Хабара поймал медведя на мушку, чуть поднял ствол и спустил курок.
Звук выстрела круто ударил в горы, вернулся, отраженный, к людям, но шатун продолжал быстрый опасливый бег и вскоре скрылся из глаз.
Хоронили Мефодия утром, как только развиднелось. Неподалеку от зимовья раскопали снег, а все остальное поручили Дину. Китаец быстро и ровно исполнил несложный ритуал и, закидав могилу снегом, вернулся в избу.
Катя молчаливо готовила завтрак, Хабара и Россохатский чистили оружие, и никто не задал старику никаких вопросов. Никому не хотелось сознаваться, и никто не сказал бы об этом вслух, но все, кажется, почувствовали если не радость, то, во всяком случае, неясное облегчение от смерти этого человека. Он был не только дрянной, но и бесполезный член артели, злой, недалекий, торчавший у всех бельмом в глазу. И может, к лучшему, что сошел с их дороги.
Гришка, наконец, прислонил чистую винтовку к стене, прохрипел:
— Не попал я, стало быть, в шатуна. И все не попали.
— Все попади, — возразил Дин. — Я смотли след, везде кловь. Мишка далеко не уйди. Умли есть мишка.
— А-а, это добро… — равнодушно отозвался Хабара. — Можеть, поищем потом.
Он взглянул на Катю, проворчал:
— Нежданная смерть — человеку находка.
— Легче всех нечаянная смерть, — согласилась Кириллова. — Да и то сказать — плут первого разбора, прости господи. Ну вот, бежал от дыма, да и упал в огонь…
Андрей посмотрел на Катю и Хабару — и промолчал. То, что они говорили о Мефодии, было, пожалуй, бесстыдно — и все же — правда. Здесь каждый не свят, но Дикой был ненавистен всем, всё тщился на чужом горбу в рай въехать, одному себе счастье составить. И вот — промошенничал век, да так, плутом, на тот свет ушел.
Однако рассуждая так, Россохатский почувствовал уколы совести. Выходило, радовался тому, что Дикой, который хотел стать между ним и Катей, теперь мертв и неопасен. «Да изымется язык мой от гортани моея!».
Один Дин отнесся к гибели Дикого, казалось, равнодушно. Дождавшись, когда поспеет завтрак, он подставил женщине свою миску, аккуратно хлебал суп, заедая его крошечными кусочками лепешки.
Катя сказала Андрею:
— Пойдем, побродим по тайге… Еда в душу нейдеть…
Россохатский кивнул, и они вышли на свежий, уже пронизанный весной воздух и молча зашагали к Шумаку.
ГЛАВА 18-я
СЛЕДЫ НА ГРАНИЦЕ
Лю перешел русско-монгольскую границу южнее Кяхты, и посты не заметили его холодной мартовской ночью.
Весь вечер до этой ночи китаец провел в уездном городке Троицкосавске. Слуга ювелира слонялся по деревянным тротуарам, глазел на двухэтажные дома торговцев, две церквушки и собор.