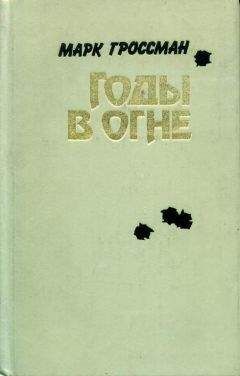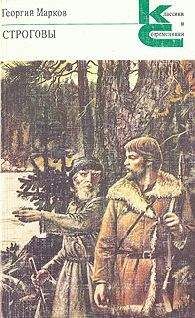Марк Гроссман - Камень-обманка
Гришка отлично понимал, что это значит.
Такой шатун — страшная угроза для всего живого. Он чуть не круглыми сутками бродит по тайге, измученный и озлобленный до крайности: природа почти ничего не дала косолапому для зимнего промысла. Да и то ведь надо помнить: всё в эту пору вокруг белым-бело, только он, черная немочь, виден на сто верст окрест всякому глазу.
Мохнач, обычно убегающий при появлении человека, зимой прет и на собаку, и на охотника: голод мутит ему мозги, притормаживает вековые инстинкты. Дело доходит до того, что шатун поднимает из берлоги своего же брата, медведя, и съедает его.
Гришка поежился. Попадись ему, топтыге, в такой час один на один да сплошай на мгновение — и останется от тебя лишь груда рваного мяса и ломаных костей. Ведь у него, дьявола, силища какая и когти, считай, четыре дюйма! Царапнет крюками — и кишки прочь.
Хабара завел Зефира в сарай и поспешил в избу.
В доме никого не было, кроме Дина. Андрей и Катя, захватив ружья, ушли на Шумак. Китаец сидел у огня, грел тонкие сухие ладони над печью, и не повернул головы, когда появился артельщик.
Это рассердило Гришку. Ему вдруг отчетливо показалось, что судьба свела его с дрянным народом, и оттого он, Хабара, должен постоянно печься о других, добывать им еду, хранить от опасностей. А что взамен?!
Дин, чуть приподняв веки, спросил:
— Ты чиво плохая, Глиша?
Таежник сел рядом с китайцем, процедил сквозь зубы:
— У баньки след х о з я и н а, Дин. Седня, близко к свету, был у нашей избы шатун.
Старик медленно повернулся к молодому человеку, посмотрел на него пристальным, изучающим взглядом, и лицо китайца сразу покрылось морщинами, точно кожу оплели мелкой и частой сеткой.
— Чиво делай, Глиголий, а?
— Караулить надо, старик. Дикому не говори, у него туман в голове. Вдвоем ночью покараулим. Придеть мохнач…
— Ладына, — согласился старик. — Я помогай буду. Надо убивай мишку. Мы не убивай, он нас кушай. Бухао[57]…
Гришка и Дин решили ночами дежурить у сарая, возле которого тоже обнаружили медвежьи переступы. По следам было видно, что мохнач топтался перед клетушкой Зефира, скреб дверь, и оттого, значит, рвался с привязи и храпел жеребец во тьме.
Позже сговорились, что Россохатский и Катя, хоть и останутся в избе, но не сомкнут глаз, чтоб помочь охотникам, коли придет нужда.
Две ночи засада таилась у открытой двери сарая, карауля шатуна. Иногда люди уходили попеременке в зимовье погреться и возвращались. Погода стояла ясная, все было отменно видно на мерцавшем снегу.
Медведь не явился. Пороша была чиста.
В ледяной тишине ночи люди не услышали никаких посторонних звуков. Иногда хрупал сеном или переступал с ноги на ногу Зефир; еще реже доносился до ушей Гришки разговор Андрея и Кати, подходивших к окну, и тогда Хабара хмурился и тоскливо думал о табаке.
Катя, боясь заснуть, ласкала Андрея, тихо вздыхала.
— Тебе нехорошо? — спрашивал Россохатский, ловя неровное дыхание женщины.
— Нехорошо.
— Отчего же? Мы вместе, и угрозы нет.
— Да не о том я, — хмурилась Кириллова. — Вместе, когда вдвоем. А здесь, как на базаре, кругом галдять. Уж лучше и совсем не видаться.
В новую ночь Андрей решил подменить Хабару, но Гришка досадливо махнул рукой: «Тут сноровка нужна, парень!»
Еще две ночи прошли спокойно.
— Ну, пронесло, небось… — заключил Хабара. — Чё перезевываться?
Его поддержали: тайга огромна, и не нужда шатуну беспременно топтаться возле людей и лезть на рожон!
Дикой раз в день заходил в избу за харчем и снова исчезал в баньке. Пил он, вероятно, по глотку, но постоянно был хмелен, и на уговоры вернуться в избу — лишь усмехался.
Как-то, подставив Кате миску, пошатнулся, но, устояв на ногах, пробормотал:
— Слышь, Катька, приходи в баню, ждать буду. А? Не куражься.
— Ступай, ступай! — подтолкнула его в спину Кириллова. — Стыдом-то тя бог обобрал. Выспись сначала.
Мефодий тихонько засмеялся, подмигнул.
— Это можно… Проспаться — можно… Забега́й, что ли…
* * *В этот вечер все легли рано, и вскоре над зимовьем, над тайгой, над гольцами выплыла огромная медно-багровая луна, и ее беспричинно-тревожный свет повис в ледяном воздухе, как отблеск недальнего пожара.
Но так было недолго. Почти тотчас с востока подул ветер, на ближние хребты надвинулась туча, заклубилась, стала стекать вниз, к кедрачам. И сразу тягуче заныли, зашепелявили сосны и ели, и заухал где-то в глубине леса не то зверь, не то птица, чуя опасность.
Однако тучу тут же разбило ветром, лунные отблески снова упали на землю, и лишь по-прежнему продолжал в чащобе опасливо подвывать странный, неведомый зверь.
…Мефодий сидел за столом, как нагорелая свеча, жевал медвежатину, и тоска распирала ему душу. Все живое, пусть вокруг черная ночь жизни, должно иметь просвет впереди, хотя бы маленькую надежду на счастье и благополучие. А он, Дикой, весь век из синяков не выходит. Эта жалкая мыслишка вцепилась ему в голову, точно клещ, и одноглазый даже застонал от обиды.
Всю жизнь Мефодия точила боль по деньгам, по богатству, по достатку, и ради той сильной боли сломал он свою крестьянскую судьбу, пустился во вся тяжкая, жрал, что придется, спал, где заставала ночь, убивал людей и воевал в чужом его душе войске.
Вот уж, кажется, совсем засмеялось ему счастье, осело в руках золото той иркутской бабенки, и — на́ тебе! — суд, и расстрел, и бегство сюда, в злые, зверьи места. Выходит, голову сняли, а шапку вынес…
Дикой желчно сплюнул. Разве потащился бы он в Саян, когда б не жаркая мечта о золоте! Да и попал-то сюда вовсе нелепо, по нужде, по чистой случайности.
Он, будто вчера было, помнит день, что так жестко повернул ему судьбу. Кое-как оклемавшись после расстрела, прятался тогда в окраинных, разбитых войной лачугах Иркутска. Тупея от голода, пробирался в Ремесленную слободку, либо в Знаменское, просил подаяние и снова скрывался, поджидая случая, чтоб убежать подальше, туда, где его никто не знает. Жил как волк — то слишком сыт, то голоден донельзя.
Однажды, когда просил милостыню, подошла женщина, кинула в рваную шапку ломоть хлеба, внезапно сказала:
— Хапаный рубль впрок не идет, значит?
Усмехнулась.
— А мне врали, что тебя, идола, свои же расстригли… Уцелел…
Похолодев от страха, Мефодий поднял на женщину целый глаз — и вовсе обомлел: перед ним стояла та самая бабенка, у какой он когда-то отнял золото.
Дикой ждал: сейчас завопит, позовет людей, — и приготовился к бегству, даже к драке. Но женщина и не думала поднимать крик.