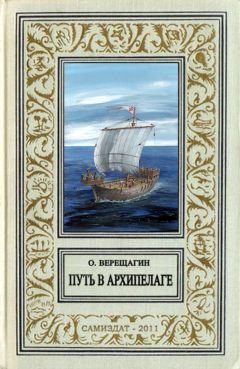Робер Мерль - Остров
Мэсон широко открыл свои серо-голубые глаза.
— Но я об этом ничего не слышал.
Он взглянул на Парсела. На миг лицо его утратило свое величаво-спокойное выражение, и он с чувством произнес:
— Благодарю вас, мистер Парсел, за Джимми. Вы поступили мужественно. — И добавил: — Значит, вы полагаете, что суд сочтет вас мятежником?
— Уверен в этом. Кроме того, мне поставят в упрек, что я ничего не предпринял после убийств… после смерти Барта.
Мэсон судорожно моргнул. Он заметил оговорку.
— Вы, безусловно, правы, — сухо произнес он, глядя в пол и снова обратился с вопросом к своему помощнику: — А вас ничто не привязывает к Англии?
Нескромность этого вопроса поразила Парсела. Он стоял в нерешительности. Но нет, лучше уж ответить. В вопросе капитана, в сущности, небыло недоброжелательства, к тому же ему предстоит провести с этим человеком всю свою жизнь.
Он проговорил смущенной скороговоркой:
— Отец умер. А матери… — он отвел глаза, — а матери все равно.
Мэсон уставился на карту. Потом сказал с вымученной улыбкой:
— Что ж, мистер Парсел, теперь нам с вами придется плыть одним курсом.
Холодный тон капитана болезненно отозвался в душе Парсела, и он решил промолчать. Мэсон продолжал:
— Если не ошибаюсь, вы уже были на Таити?
— Четыре года тому назад в течение шести месяцев. Меня приютил один таитянский вождь. У него-то я и научился их языку.
— Как? — перебил Мэсон. — Вы умеете говорить по-таиянски? Это мне очень пригодится. И вы говорите бегло?
— Да, капитан.
— Всего за полгода! У вас положительно талант к языкам мистер Парсел, — добавил он и смущенно улыбнулся, как будто предположение, что офицер корабля может быть интеллектуально одарен, уже само по себе оскорбительно.
— Как вы думаете, дадут нам таитяне провизии?
— Все, что мы пожелаем.
— И безвозмездно?
— Да. Зато у нас — начнутся кражи.
— И часто они будут красть?
— Каждый день.
— Но это же скандал! — Мэсон даже побагровел от негодования.
— Вовсе нет, — ответил Парсел. — Они дают в вам все, что них есть, и берут у вас все, что им приглянется: таково в их представлении истинное братство.
Мэсон нетерпеливо хлопнул ладонью по столу.
— А тот таитянский вождь, который вас приютил…
— Его зовут Оту.
— Он пользуется у себя влиянием?
— Огромным. Кроме того, у него еще одно преимущество голубые глаза. Он уверяет, что происходит по прямой линии о капитана Кука, — с улыбкой добавил Парсел.
Мэсон поджал губы с чопорно-ледяным видом, и Парсел вдруг осенило: ведь капитан Кук был капитаном. Значит, бы человеком безупречным…
Мэсон поднялся из-за стола. Он был лишь немного выше Парсела, но такой широкоплечий и плотный, что Парсел всякий раз ощущал себя рядом с ним чуть ли не ребенком.
— Мистер Парсел, — начал Мэсон, и лицо его снова выразило волнение, а голос предательски дрогнул, — поверьте, я чувствую, какая огромная ответственность ложится на мои плечи за судьбу людей, которые из-за меня никогда больше не увидят Великобританию. Однако, — добавил он после минутного раздумья, — если бы вновь произошло то, что произошло вчера, я поступил, бы точно так же.
Он постарался вложить в эту фразу всю силу убеждения, но прозвучала она фальшиво. Парсел молчал, потупив глаза. Он лично не одобрял убийства Барта и знал, что Мэсон, правда по совсем иным причинам, никогда не простит себе этого поступка. Моральной стороны вопроса для Мэсона не существовало. Он рассуждал как истинный моряк. На суше убивать можно, но убив человека на борту, ты становишься зачинщиком мятежа и ставишь судно вне закона.
— С вашего разрешения я подымусь на палубу и прикажу подтянуть фал на грот-марселе, — сказал Парсел. — Паруса недостаточно подняты.
— Я и сам это заметил, — перебил его Мэсон. — При жизни Барта марсовые никогда не осмелились бы…
Наступило молчание. Парсел и Мэсон боялись встретиться взглядом. Первым заговорил Мэсон:
— Значит, по-вашему, теперь будет трудно поддерживать дисциплину?
— Нет, — ответил Парсел равнодушным тоном. — Дисциплины просто не существует. — И добавил: — Если начнется шторм, не знаю даже, смогу ли я заставить матросов лезть на ванты.
И так как Мэсон молчал, глядя на него во все глаза, Парсек сказал:
— Молю бога, чтобы мы поскорее добрались до вашего острова.
Стоя на пороге хижины, Оту, смотрел вдаль, поглаживая себе грудь рукой, хоть и крупной, но изящного рисунка, трудная клетка у него была могучая, но с годами началась одышка, живот не то чтобы ожирел, а как-то расплылся, и Оту не испытывал ни малейшей охоты бежать вместе с молодыми встречать перитани[3].
Он чувствовал, что стареет, но так как стареть каждому неприятно, то он старался убедить себя, что спешить навстречу чужестранцам ему не позволяет чувство собственного достоинства. Огромная пирога перитани, свернув свои большие паруса, уже стояла в лагуне, и белые люди спускали на воду маленьких пироги. А к ним подходила только что отчалившая, флотилия: на первой пироге дети, на второй — ваине[4], такие же резвые, как дети. «Ауэ, ваине! Ох уж эти женщины!» — с улыбкой пробормотал Оту. Солнце стояло уже высоко. И мужчины, увенчав головы листьями, дружески махали руками, приветствуя гостей, однако же остались на берегу. Оту одобрил их сдержанность.
Таитяне на берегу, да и сам Оту на пороге хижины от души хохотали, глядя, как ползут по спокойным водам лагуны шлюпки чужеземцев. Эатуа[5] свидетель, они слишком тяжелы по сравнению с местными пирогами, а движения перитани медлительны и неловки. Однако приятно было смотреть, как белые, странные на вид весла, длинные, словно ножки комаров, осторожно касаются воды.
Шлюпки ткнулись носом в песок, и Оту увидел, как перитани, мохнатые, бородатые, без рубашек, в полосатых штанах, перешагивают через карлинги. Оту покачал головой: «Ауэ, до чего же они тощие! Видать, остров дождей, пусть он и пребольшой, вовсе не такой уж богатый, как они уверяют».
Вдруг Оту пронзительно вскрикнул. Потом, воздев к небу свои на редкость красивые руки, широко развел их и зычно позвал: «Ивоа! Меани!» И, не дожидаясь ответа, зашагал к берегу, увязая голыми ступнями в горячем песке.
— Адамо! — крикнул он издали. Адам Парсел поднял голову, оглянулся, заметил Оту, который шел таким быстрым шагом, что под его парео мерно подпрыгивал живот, и опрометью бросился к нему навстречу. Золотистые кудри, гостя сверкали под солнцем.
— Адамо! — крикнул Оту, заключив Парсела в свои объятия.
Оту то отпускал гостя, то снова прижимал к своей широкой груди, терся щекой о его щеку и все твердил: «Адамо! Адамо! Адамо!» — вкладывая в эти слова все свое удивление и всю любовь. Лицо Парсела порозовело, а нижняя губа задрожала.