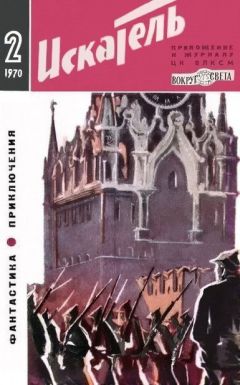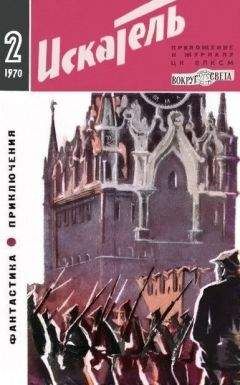Александр Казарновский - Поле боя при лунном свете
Соседи ее не любили. Не забуду, как однажды, возвращаясь из школы, я поднимался по лестнице и слышал, как Шафика из квартиры напротив объясняла дяде Радже, зашедшему в неурочное время:
– Махмуда нет дома. Он обычно приходит вечером. Дети в школе. А его еврейка, наверно, спит и звонка не слышит.
Кстати, до сих пор не знаю, почему, будучи человеком далеко не бедным, отец не стал строить дом, а предпочел, чтобы вся наша семья так и жила в квартире, которую ему купил мой дед. Правда, квартира была очень просторная, но среди людей его круга, поголовно отстроивших себе виллы, отец был исключением. Нам, детям, однако, это оказалось на руку. Дело в том, что, если сейчас мы все терпеть не можем евреев, то тогда, в семидесятых, это был не вопрос мироощущения, а вопрос политики. А политикой интересовалась как раз та часть населения, которая жила в виллах. Вот и получалось, что, переедь мы из квартала, где жил средний класс, в богатый район, нам, отпрыскам еврейки, не поздоровилось бы. Но и здесь, как вы уже заметили, всякое бывало.
Один случай, помнится, всех потряс – случай, чуть ли не единственный в своем роде. Мне было лет десять… да, точно, десять лет. То был восемьдесят второй год. Мы с ребятами играли во дворе нашего дома, там, где за скамейками росли большие олеандровые кусты. На скамейках этих сидели Шафика с мужем и еще кто-то из соседей, то ли Абуды, то ли Сабаги – точно не помню. Открылась зеленая дверь, и вышли мама с отцом. Они подошли к сидящим на скамейке, прислушиваясь к тому, что те живо обсуждали. А обсуждали недавнюю резню в Сабре и Шатилле, возмущаясь хладнокровной жестокостью евреев, говорили, какие те звери и от души желали им всем того же, что произошло с обитателями этих лагерей.
И вдруг мама закричала: «Неправда! Это не мы! Мы бы такого никогда не сделали!» Наступила гробовая тишина. Я взглянул на лица соседей и понял, что эти три фразы не будут прощены не только маме и нам, но и нашим детям и детям наших детей. В тишине прозвучал звук пощечины – первый случай, когда при мне отец поднял руку на маму. Мы, дети, застыли, а лица соседей, которые после маминых слов как бы окаменели, теперь, наоборот оттаяли. Мама, взявшись за края шали, чуть подтянула ее вперед, словно пытаясь прикрыть щеки, одну из которых мгновение назад обожгла ладонь мужа, и… нет, ее лицо оставалось перед нами, но, казалось, это лишь прозрачный призрак лица, а сама она, как улитка, уползла в мягкую раковину шали.
Кстати, этой пощечиной отец, можно сказать, выручил всех нас. Он как бы стер ту тень, которая могла на нас пасть из-за маминых слов. Впоследствии отношение к нам нисколько не изменилось. Лично мне окружающие редко напоминали о моем происхождении. Другое дело, что в условиях оккупации оно само о себе частенько напоминало. Сами посудите, что я должен был чувствовать, когда отцовский гость рассказывал о том, как дважды разрушали его дом за то, что сыновья участвовали в акциях ФАТХа.
Разрушить за две минуты дом, который крестьянин – а рассказчик приехал из деревни – строил всю жизнь! Дать на сборы полчаса, а потом заложить динамит и на глазах у детей, теперь уже бездомных – ба-бах!
Моих братьев всё это тоже коснулось, и еще как! Так что пора выходить на сцену новым персонажам… да нет, не побоюсь этого слова – героям. Но сначала – о старшем нашем брате, который стоит особняком – об Ахмеде. Я чуть не написал «тихий, старательный мальчик», но, если «тихий», то в переносном смысле. Потому, что в самом прямом он был очень громкий, особенно по ночам. Ахмед страдал тяжелейшей астмой. Все мое детство, сколько я себя помню, он будил нас по ночам своим диким кашлем. Кашлял он надрывно, будто говорил: “Ах! Ах! Ах!”, кашлял, будто над чем-то сокрушался. Он легко подхватывал простуду, а она в свою очередь неизменно перерастала в лучшем случае в бронхит, а, как правило, в воспаление легких. Болел он долго, мучительно, иногда кашель так выворачивал его наизнанку, что весь обед, который мама приносила ему в постель и который он только что с таким аппетитом ликвидировал, оказывался на ковре. Беспробудные болезни – а с нашими зимами он из них не вылезал – привели к тому, что он один читал больше, чем все его братья и сестры вместе взятые, а ведь книгочейство – наследственная «болезнь» семьи Шихаби. Странный каламбур получается – ироническое упоминание болезни в кавычках и самой настоящей страшной болезни без всяких кавычек.
Так вот, читал он все – в первую очередь поэзию – и нашу старинную, золотистую, особенно Абу-Нуваса, и европейскую. Махмуда Дервиша, всеобщего кумира, кстати, не очень жаловал. Из современных терпимо относился к Абу Али Расми, а по-настоящему обожал европейцев, – в первую очередь французов – Верлена, Рембо, Апполинера. Помню, допекал нас вопросом:
– Представьте, что предисловие к томику Аполлинера изданному в 1930-м году, заканчивается словами: «Великий поэт Гийом Аполлинер пал на полях Первой Мировой войны». Может ли такое быть?
Уже по самой постановке вопроса ясно было, что не может, но мы не понимали, почему. Самые тупые заявляли, что, наверно, он не пал на фронтах Первой Мировой.
– Нет, – восклицал Ахмед, – пал!
– Тогда почему же?… – недоумевали они.
– Вот я и спрашиваю, почему?
А разгадка, оказывается, была в том, что в 1930-м еще не знали, что будет Вторая Мировая, поэтому не говорили “Первая Мировая”, а просто “Мировая”. Можно было бы догадаться.
В другой раз он нас достал вопросом: “Первый дошедший до нас глобус был изготовлен в 1492-м году. Чего на нем не хватало?”
Ну, ясное дело, тут уж все ответили:
– Америки!
Географией он тоже увлекался. Лежа неделями в кровати, живя в городе, въезд и выезд в который разрешался только по пропускам, он читал о путешествиях и сам мечтал отправиться в дальние страны.
Языки он, как и все мы, знал хорошо. Как-то раз прочел на английском дневники исследователя бассейна Амазонки полковника Фоссета. Фоссет был убежден, что где-то там, в дебрях Южной Америки, скрываются остатки Атлантиды. Не знаю уж, каким образом континент, утонувший посреди океана, мог, по его мнению, там всплыть. Как бы то ни было, в начале двадцатого века полковник снарядил экспедицию на поиски древней цивилизации, и сам бесследно пропал, как Атлантида, затонул где-то в безбрежном океане зеленой сельвы. Так никто и не знает, куда он делся. Так вот, мой братишка возмечтал, когда вырастет, снарядить экспедицию по следам Фоссета и найти его живым или мертвым. Исходя из того, сколько времени прошло с тех пор, как тот исчез, скорее второе. Он стал зубрить испанский, изучать все, что было связанно с Латинской Америкой, стал делиться с одноклассниками своими планами и даже подбирать среди них будущих участников экспедиции. Было ему при этом тринадцать лет.