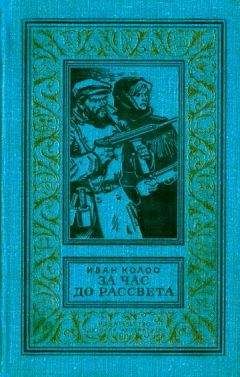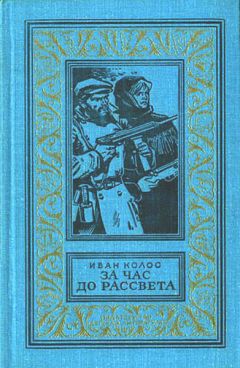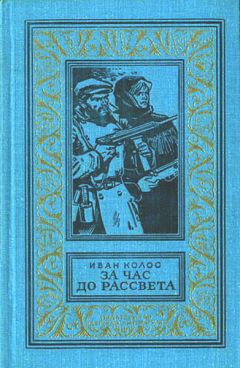Александр Мартынов - В заповедной глуши
Мальчишка постоял возле спящего друга. Потом сел на свою кровать и прикрыл глаза. Ноги загудели… потом зажужжало всё тело… и Валька уже почти уснул, когда из кабинета послышался голос Михала Святославича:
— У телефона… Нет, не Виктор… Да, вот, вернулся…
Валька открыл глаза — и увидел, что Виктор тоже оторвал голову от стола. Дёрнулся встать, но увидел Вальку — и широко расплылся во всё ещё сонной улыбке:
— Верну-у-ули-ись…
— Ага, — Валька подмигнул ему. — Вернулись.
25
Сколько Валька помнил себя — Новый Год всегда ассоциировался у него с праздником.
Но не на этот раз.
Он сам не очень понимал, что случилось. Вот-вот только ещё всё было нормально и даже здорово. Витька на кухне кочегарил что-то обалденно пахнущее. Михал Святославич на крыльце, обтёсывая елочку снизу, невероятным голосом распевал: «Пусть эта ёлочка в праздничный час кажной иголочкой радваит нас…» Валька разбирал ящик с игрушками, вытащенный с чердака.
И вдруг что-то произошло.
Что-то случилось.
Вдруг тусклым стал свет. Пыльным сделалось яркое стекло игрушек. Надоедливым — немузыкальное пение. А запах напомнил дом и то, как мама каждый новый год сама готовила массу всяких вкусных вещей — Каховские никогда не отмечали этот праздник вне дома. и ещё они обязательно покупали в магазинах две-три новых игрушки. Отец шутил: «Это для твоих детей, Валентин, про запас.»…
И Вальке перестало хотеться праздника. Совсем. А захотелось лечь спать и проспать долго-долго, без снов и без движения. Хоть до весны. Ощущение было таким тяжёлым и непривычным, что Валька удивлённо прислушался сам к себе: не пройдёт ли, не отхлынет ли так же внезапно, как возникло?
Но тоска осталась. Как глубоко засевшая заноза с обломанным кончиком.
Ну почему так? Даже Мора — и та невесть где. Он один — один на холодном ветру, и некуда спрятаться. Да и не хочется.
Мальчишка посидел около ящика, боясь, что его окликнут Витька или лесник. Но они молчали. Точнее — не молчали, а не окликали.
И пусть, подумал Валька. Встал и подошёл к окну, по пути погасив свет.
За окном было бело. Снег выпал всего два дня назад после бесснежного декабря — неглубокий, еле-еле, но укрыл всё и пока что держался. На деревьях нависли облака инея. Мир был безмолвен и холоден.
Вальке показалось вдруг, что нет никого за его спиной — в комнатах. Что он совсем-совсем один — стоит возле окна и ждёт, сам не зная, чего. Может быть, он один на всей планете? И ничего, никого больше нет — заснеженные леса под равнодушным звёздным небом, дом — и в нём он, Валька Каховский.
Он дыхнул на окно и написал по туманному пятну на стекле:
Мама.
Отец.
Я один.
Слова уплыли куда-то в тёмную глубину. Валька нарисовал стрелку и подписал:
Я хочу домой.
Можно выучить тысячу и миллион красивых (и правильных!) слов. Но всё равно в один стеклянно-ясный момент то отчётливо понимаешь: тебе четырнадцать лет и больше любых подвигов и свершений на свете, больше славы и приключений ты хочешь просто увидеть маму — маму, которую ты не видел больше семи месяцев, маму, с которой тебе даже не дали обняться на прощанье. И от этого понимания не защититься и не отбиться ничем. Никак.
И из чёрных дверей веет в спину пустым холодом. От этого дыхания не спасает АВГЭ и тёплая одежда.
Валька ткнулся лбом в стекло.
С кем угодно, но не с ним. Весь мир может рухнуть, но его — его должен остаться.
— Naneth,[69] — прошептал он, — mell, meleth…[70] — и судорожно вздохнул. Звуками никогда не существовавшего языка он хотел сделать несуществующим, шуточным своё горе. Но вместо этого чужие слова вдруг обрели жизнь и тоже пропитались горем.
И всё-таки что-то изменилось. Валька не сразу понял — что именно. Но уже через миг различил за деревьями движущиеся огоньки и замер удивлённо. Потом распахнул двойную раму. В комнату влился холод… но вместе с ним влилась и приближающаяся песня, которую дурашливым хором пели в лесу звонкие голоса:
— Новый Год настаёт!
С Новым годом,
с новым счастьем!
Время мчится вперёд!
Серый волк уже не страшен!
— Э! — крикнул Валька, оборачиваясь в комнаты: — Э, к нам гости!!!
* * *— …и тут Генка срывается в воду и начинает по-серьёзке тонуть. А Сергей Степанович становится цветом — во, как свёкла в салате! — и орёт на весь берег: «Кто разрешил купаться?!»…
— Прекрати руками жрать, вилка же есть…
— …а он спрашивает: «А почему у вас тут указателей нет, если такой хороший пляж?» А Алька ему говорит: «Да вы гляньте, сколько тут людей! А что было б, если бы мы ещё и написали, как сюда добираться?!»…
— …это — говорит — наша национальная привычка, вас не смущает? Тогда отец ему отвечает: «Да ладно, кладите на стол уж и все четыре копыта…»
— Бутербродики передай…
За столом сидели — считая донельзя довольного хозяина дома, Вальку и Витьку — ровно двадцать человек. По телевизору шёл концерт, но на него толком не обращали внимания. Ёлка переливалась огнями двух гирлянд; её вершину украшал кем-то тайком водружённый волчий череп.
— А где Лёвка и Иришка?
— Они целоваться пошли… Шампанское осталось?
— Он налил мене шарпанского вина —
Я отравилась: химия одна…
— Давайте споём!!! Михал Святославич, гитара есть?!
— Валь! Подыграешь?
— Да о чём разговор, я и спою…
— Э! Идите в снежки играть!!!
— А говорили — они целуются…
— Так не пойдём к ним, может, они и начнут… Что поём-то?
— Да, точно? Лирицкую, философицкую или новагоднишную?
— Философицкую давай.
— Не, лирицкую!
— Про любовь и про ба…вушек.
— Философицкую!
— Философицкую! Телик вырубите, надоел!
— Ладно, — Валька настроил гитару, щипнул струны…
— Так много громких слов — а я устал…
Ни прошлому, ни новому — не рад…
Ведь если листь падают с куста —
Ты не считай, что это листопад…
Эпоха перемен — но крепче цепь.
Лишь постоянны дамы и шуты.
С кого спросить за наш нелепый хлеб?
Иных уж нет — а тех и след простыл…
Конь белый ускакал за океан.
Конь красный никуда не доскакал —
Не потому, что всадник вечно пьян,
А потому, что плеть не в тех руках…
Нет, я не возражаю никому…
Мы все правы — зависимо от мест.
Высокий трон построим одному,
И тем же топором — другому крест…
Коту лакать из блюдца молоко
Легко, когда ему его нальют.
Я пью свой гнев, разбавленный тоской,
Я в зеркалах себя не узнаю…
…И скрипнет каждой спицей колесо
Под тяжестью оттаявших дорог…
Присмотришься — и веришь: это сон,
Который только нам присниться мог…
…Как много громких слов. А я устал.[71]
В комнате было тихо. Валька поднял голову от гитары и улыбнулся: