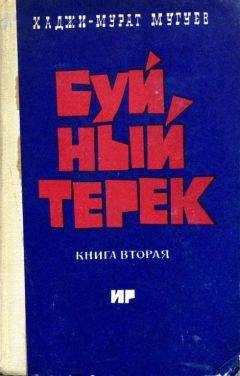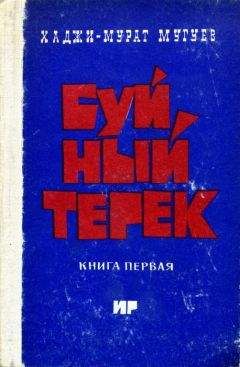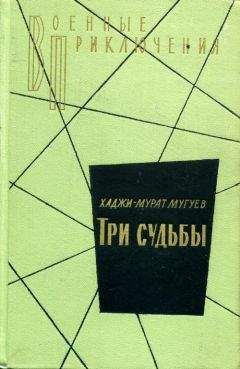Хаджи-Мурат Мугуев - Рассказы разных лет
До 18.25 оставалось много времени, Я написал подробную записку генералу и отослал ее в штаб армии с дежурным мотоциклистом. Сам же решил пройтись по улице, чтобы сосредоточиться и дать голове немного отдохнуть от сегодняшних событий.
Черт знает, что все-таки означали эти разноречивые призывы неведомого Генриха? То «нужны сведения о советских воинских частях», то они не нужны и даже «запрещаю заниматься военной разведкой», и вдруг какое-то «искомое», являющееся «главным», да еще с каждым часом становится «необходимее» кому-то в Берлине. Но что же могло находиться столь ценного в этом маленьком, расположенном в стороне от главных дорог Шагарте? Картина? Нет, конечно, она не представляла собой особой ценности. Дело не в ней, а в другом. Но что это могло быть? Золото, брильянты, деньги? Тоже нет. Из-за денег не поднялась бы такая опасная возня с присылкой самолетов. Нет, тут было что-то другое. Если Берлин шлет в маленький Шагарт агента за агентом, это значит, что здесь осталось действительно что-то очень важное. Но что и где?
Дойдя до этого вывода, дальше я уже терял логическую нить. В раздумье я ломал голову, строил догадки и делал самые различные предположения, но все было тщетно… Загадка оставалась нераскрытой. Раздосадованный, я запер комнату и, положив ключ в карман, вышел в переднюю, в которой сидели Глебов и Харченко, азартно сражавшиеся в шашки.
— Никого не пускай ко мне, — сказал я, уходя.
— Есть, не пускать! — вскочив со стула, но не сводя глаз с шашек, крикнул Харченко.
Я вышел из дому. На бульваре было много народу. Иногда торопливо проносился велосипедист или велосипедистка с навьюченными на багажник вещами. Встречались целые немецкие семьи с грудами всякого скарба на ручных тележках. Это были беженцы, возвращавшиеся из окрестных сел в свои дома, или горожане, перевозившие обратно запрятанные где-либо домашние вещи. На углах были открыты киоски с пивом, лавчонки торговали, чувствовалось, что жизнь в тихом городке входила в норму.
Я открыл дверь скромного магазинчика. Мелодично зазвенел звонок. Из-за прилавка мне навстречу поспешно вышел пожилой немец. Из-за его спины выглядывала жена. Пепельницы, лезвия, бритвы, одеколон, зубная паста, пудра, французские духи, мышеловки, детские игрушки, пакеты с цветочными семенами и прочая мелочь были аккуратно расставлены на полках.
Я поздоровался с хозяевами, купил десяток лезвий и пошел дальше, провожаемый приседаниями и поклонами четы. В парикмахерских брились и стриглись немцы, возле бара толпились мужчины и женщины. Полный, типично немецкий бюргер сосредоточенно отбирал и складывал в рюкзак выданную ему из овощной лавки по талону бургомистрата картошку. Все жило спокойной, патриархальной, захолустной жизнью заштатного городка, и если бы не изредка встречавшиеся разбитые здания, то и в голову не могла бы прийти мысль о том, что этот город взят с бою русскими войсками и что здесь всего четыре недели назад хозяйничали фашисты.
«Так зачем же именно сюда залетают фашистские самолеты, сбрасывая свою агентуру? Зачем?» — снова и снова сверлила мой мозг одна и та же мысль. Походив с полчаса и немного успокоившись, я вернулся назад и сейчас же сошел вниз, к арестованному. Его вторично перевязывал вызванный к нему фельдшер.
— Как он?
— Легкое, касательное ранение колена. Через неделю сможет танцевать, — ответил фельдшер.
— Через неделю он будет гнить, если не захочет спасти себя, — сказал я.
Немец побледнел.
— По-русски говорите? — усаживаясь против него, спросил я.
— Слабо. Понимаю лучше, — тихо, словно выдавливая из себя слова, ответил по-немецки фашист.
— Ваше имя?
— Иозеф.
— Фамилия?
— Миллер.
— Откуда родом?
— Из Бреслау, но живу здесь второй год.
— Возраст?
— Двадцать восемь лет.
— Член нацистской партии?
— Нет. Я был в гитлерюгенде, недолго, год-два, не больше.
— Где ваши шифры и остальные документы?
— Кроме тех, что взяты вами, не имеется.
— Где находится городской центр и кто входит в него?
— Клянусь вам, я этого не знаю, господин офицер. Ведь я маленький человек, всего-навсего радист. Откуда я могу знать?
— Очень хорошо. А какое задание не выполнено вашей группой?
Немец, пожимая плечами, проговорил:
— Не имею представления. Вы сами видите, господин офицер, что я хочу сохранить свою жизнь и ничего не скрываю, но этого, к сожалению, не знаю.
Дверь открылась, и в комнату быстрыми крупными шагами вошла переводчица.
— Прошу извинить меня… — начала было она, но вдруг смолкла, изумленно глядя на нас.
Не успел я остановить ее, как немец, сидевший напротив меня, несмотря на раненую ногу, подскочил с места, глядя на нее округлившимися глазами.
— О-о! Какая встреча! Разрешите мне остаться, господин подполковник, я пригожусь вам, — твердо сказала переводчица. — Да-да, это я, герр Циммерман. Вы не ошиблись! Позже я расскажу вам причину моего внезапного прихода, — обратилась она ко мне. — Значит, можно мне остаться?
Я утвердительно кивнул головой.
— Вы можете говорить с этим господином и по-русски.. Ведь он из прибалтийского края, бывший русский подданный и… — она закурила и медленно произнесла: — Родной племянник рейхсмаршала Геринга.
— Вот как! — сказал я. — Оказывается, «маленький и ничтожный радист» Иозеф Миллер не кто иной, как…
— Я соврал, — перебивая меня, быстро сказал немец. — Все, что я говорил до сих пор, неправда. Но теперь, когда появилась эта… эта… дама…
— Можете, по старой памяти, называть меня фрау Вебер или даже Фридой, как вам угодно, от этого ничего не изменится. Только говорите подполковнику правду, а я буду сидеть, курить и слушать ваши показания, — очень вежливо сказала переводчица и поудобнее уселась на диван.
— Я буду говорить правду. Но только прошу, господин офицер, помнить ваше обещание и сохранить мне жизнь. Да, я Конрад фон Циммерман, родной племянник рейхсмаршала, член национал-социалистской партии с тысяча девятьсот тридцать шестого года. Мне тридцать лет.
Переводчица не вмешивалась в разговор, лишь время от времени испытующе поглядывая на немца. Он указал мне адрес местной подпольной организации.
— Улица Хорста-Весселя, 172, — дважды повторил он.
Слушая его, я наблюдал за переводчицей. Мне казалось, что она вся настороже, не то не доверяя рассказам немца, не то не одобряя его болтливости. Одновременно с этим я по лихорадочно блестевшим глазам Циммермана замечал, что какая-то мысль занимала его. Но что же? Не страх ли за себя, особенно теперь, когда он выдал всю местную организацию фашистов? Нет, здесь было другое. Но что? Может быть, желание остаться со мной наедине?