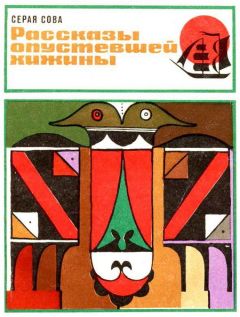Валерий Барабашов - Белый клинок
В слабом свете, падающем из затянутого паутиной оконца, Павел видел теперь лицо Степана, грустное и усталое, но серые большие глаза его смотрели спокойно.
Выйдя во двор, Степан огляделся — никого и ничего вокруг подозрительного не увидел; Старая Калитва спала в этот предутренний стылый час, поднимался над Доном слабый туман, плыл понизу бесцветными почти лохмами, путался в вершинах дубов. Стоял туман и в оврагах, и Родионов порадовался: Павлу это на руку — скользнул с подворья и пропал, растворился в этом жидком молоке. Он дал знак Карандееву, тот быстрыми шагами, почти бегом, пересек двор и огород, перелез через невысокий, покосившийся от времени плетень, спустился в овраг. Теперь все — знакомый уже круг по неглубокой снежной целине и — лес. В лесу же он, что иголка в стогу сена.
Перевел дух и Родионов. Запахнул плотнее полушубок (а холодно, однако, с самого утра, видать, морозный будет нынче день), пошел в дом. Ложиться, пожалуй, теперь ни к чему, солнце скоро поднимется, жена встала уж, поди. Да и ему самому — коня почистить и напоить, навоз из катуха выгрести — дел много. А там и «служба» — Гришка Назарук вроде смотра сегодня затеял: коней глядеть, сбрую, амуницию бойцов, оружие.
Степан ушел, а в соседнем доме, в подслеповатом маленьком окне неслышно опустилась занавеска: старый Марущак, пробудившийся еще до первых петухов, видел и самого Степана, и ночного его гостя, скользнувшего в овраг за их огородами…
* * *Сведения Вереникиной были очень важными. Любушкин, прочитав торопливо исписанные листки, тут же пошел к Карпунину, и вдвоем они снова и снова вглядывались в цифры и слова донесения, сопоставляя с другими, уже известными им фактами.
Картина полностью прояснилась. Воронежская губчека располагала теперь дополнительными сведениями о Повстанческой дивизии, о ее связях с антоновским штабом, о намерениях колесниковцев. Важными были и подтверждения о планах Языкова.
— Языковым я займусь лично, — сказал Карпунин. — А ты, Михаил, кровь из носу, а обоз с оружием в Калитву не пропусти. Маршрута движения и способа переправки его с Тамбовщины мы не знаем, и никто нам этого, сам понимаешь, не скажет.
— Да уж! — засмеялся Любушкин.
— Вызови отряд Наумовича, устройте засады на возможных направлениях движения этого обоза…
— Оружие они могут и отдельными подводами переправлять, — вставил Любушкин свое соображение. — Обоз очень заметен, его не так просто переправить в нашу губернию.
— Все так, согласен, — сказал Карпунин. — Но иного пути не вижу пока, Михаил. Вряд ли обоз пойдет, скажем, через Усмань, слишком большие расстояния. Скорее всего вот здесь, смотри…
Карпунин, а вслед за ним и Любушкин поднялись, подошли к карте, и Карпунин стал показывать возможное направление и место переправки обоза. Скорее всего, это будут лесные глухие дороги, ночное время…
Да, теоретически все выглядело вполне логичным: Антонов прикажет переправить оружие кратчайшим путем, держась лесных дорог и темноты, это было бы вполне разумное решение, но, с другой стороны, глупо было бы, рискованно отправлять оружие сразу, одним обозом и в одном направлении — не могут же в штабе Антонова не предположить о возможном нападении чекистов?!
— А вот ты бы шел с этим обозом, Михаил, — спросил Карпунин. — Ну-ка, покажи на карте — где?
Любушкин подумал, показал довольно широкий коридор движения, но все равно путь он выбрал по лесным массивам, по глухим, почти невидным на карте дорогам.
— И привел бы я его сюда, в Шипов лес, — закончил Любушкин свои рассуждения. — Имей в виду, Василий Миронович, что лес этот под контролем бандитов, того же Осипа Вараввы. Тянется этот массив во-он аж куда, в него легко попасть из тамбовских лесов, сделать это можно почти незаметно. Так что я бы при хорошей охране рискнул провести сразу весь обоз.
— Сделаем так, Михаил. — Карпунин вернулся к столу, сел в кресло и Любушкин. — Перекроем весь этот «коридорчик». Дело чрезвычайно важное, и потому подними на ноги все, что только можно: отряд Наумовича, милицию, чоновцев, отряды при ревкомах и военкоматах, все! Задача одна — найти этот обоз. Думаю, что он должен появиться в ближайшие дни. Антоновцы спешат, Языков был в Старой Калитве… та-ак, — Карпунин посчитал в уме, — двадцать второго, сегодня двадцать шестое… Конец ноября — начало декабря, не позже четырех-пяти ближайших этих дней. Действуй, Михаил Иванович!
Любушкин кивнул, ушел, а Карпунин вытащил из стола знакомые фотографии, снова вглядывался в лица Вознесенского и Языкова, думал. Конечно, Языков живет в Воронеже нелегально, скорее всего под другой фамилией и, возможно, с измененной внешностью. Конспиратор он опытный, враг серьезный, возможность сделать пакость Советской власти не упустит. «Но неужели ты всерьез думаешь организовать здесь, в Воронеже, мятеж? А, Юлиан Мефодьевич? — спросил Карпунин фотографию. — В восемнадцатом году положение было посерьезнее, и то ваш «Осьминог» был наполовину перебит, а теперь…»
— Теперь положение тоже опасное, — сказал вслух Карпунин, отодвинул фотографии, закурил. Подумал, что надо размножить фотографии Языкова, раздать их постовым милиционерам на вокзалах — не сидит же Юлиан Мефодьевич в каком-нибудь подземелье, а ездит, видимо, работает…
* * *Старый Марущак, бобыль и напрочь почти глухой семидесятилетний дед, обиженный на Степку Родионова за пропавшего петуха (еще в шестнадцатом году Степка швырнул в него каменюкой, когда петух склевал сохнущие на ряднике семена конопли), едва дождался утра. Надев штопаный-перештопаный когда-то бабкой Шурой лапсердак, на ходу уже кинув на седую голову шапчонку, Марущак вооружился клюкой, чтобы отбиваться от слободских собак, и, шаркая крепкими еще катанками, двинулся к штабу повстанцев, к самому Гришке Назаруку.
Гришка доводился ему каким-то родственником, каким — старый Марущак и сам уже позабыл, но хорошо помнит его сначала сопливым, с вечно разбитым носом пацаном, а потом пьяным и драчливым парубком. Теперь же, когда Гришка стал «полковым командиром», он, кажись, малость остепенился, морда сделалась сытой, да и в поведении он стал важный, на козе не подъедешь. Просто так с тобой, зараза, и не поздоровкается, руку не подаст. Мотнет башкой при встрече, кинет ехидное: «Ты ще живой? Надо же…» — и был таков. Приблизиться к начальственному родственнику Марущаку никак не удавалось. А приблизиться хотелось. Отчего бы не сидеть ему в том же штабе? Глядишь, дал бы дельный совет, семьдесят годов по земле ползает, кой в чем разбирается. Да и при случае мог бы тот же Гришка или кто из его хлопцев привезти воз хворосту, самому уж ему, старому, то не под силу.