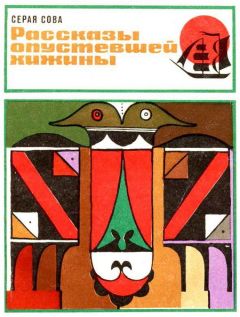Валерий Барабашов - Белый клинок
О Вереникиной Языков подумал спокойно, даже равнодушно — девица как личность мало его заинтересовала. Отчего это штабные у Колесникова проявили такой повышенный интерес к ней? Таких, как Вереникина, — сотни тысяч по России: бывших офицерских жен, барынек, интеллигентов. Все они сейчас растерялись, притихли, ждут. Охотно пойдут за любой новой властью, которая пообещает им новую жизнь и новые блага, выкрикивая здравицы в ее честь. Толпа есть толпа, ей всегда нужен хороший пастух с крепким кнутом…
Но все же энергию Вереникиной и ее ненависть к большевикам надо использовать. Колесников правильно решил, оставив ее в Калитве. Пусть пишет воззвания и прокламации, просвещает в нужном направлении темных этих земляных жуков, взявшихся за винтовки…
За очередным поворотом дороги открылась березовая роща, и Языков велел вознице остановиться: задохнулся вдруг от нахлынувших, остро резанувших сердце воспоминаний. Точно такая же роща была и возле его имения, где он так любил бродить с женой, Дарьей Максимовной. Отняли, все отняли, сволочи!..
Снегу у берез было много, гораздо больше, чем он предполагал, но Юлиана Мефодьевича это не остановило. Он углубился в рощу, стоял, подняв голову, с тоской смотрел в серое зимнее небо, на голые вершины берез, гладил их толстые белые стволы. В ушах его звучал смех Дарьи Максимовны — дохнуло летом, теплом, зеленью. Жена в длинном белом платье, веселая и счастливая, любящая и любимая. Где все это? Дарья Максимовна вынуждена жить теперь в простом крестьянском доме, учить сопливых деревенских пацанят грамоте… Мог ли кто-нибудь из них даже подумать о нынешнем кошмарном времени, когда и он сам, и боевые его товарищи вынуждены теперь скрываться, жить нелегально, ждать и надеяться на лучшие времена. Неужели это все явь? Бог ты мо-ой!
Охватив голову руками, Юлиан Мефодьевич покачнулся, застонал. Стоял так долго, чувствуя, что встреча эта с березовой рощей не прошла для него даром, что он почерпнул здесь, среди деревьев, какие-то новые, прочные силы.
С каменным лицом пошел назад, к бричке, твердо глядя на своих попутчиков. Они, эти люди, помогут ему стать снова самим собой, человеком и имущим гражданином, тем, кем он был всего три года назад.
Щеголев с готовностью подвинулся в бричке, внешне весь подтянулся — это хороший помощник, умеет держать язык за зубами, дисциплинирован и предан. С такими людьми легко и просто. У них с Щеголевым нет разногласий — Юрий Маркович сам из богатого рода, тоже ограблен Советами, а значит — смертно обижен, не простит.
Возница, повернув голову к Языкову, сказал грубо, что «нету времени прохлаждаться, ваше благородие, сумерки надвигаются», и Юлиана Мефодьевича взорвало это замечание мужлана, придатка лошади, ямщика! Он смеет делать ему замечания, ублюдок!
Прочитав в глазах возницы неприязнь к себе, Языков не сдержался, закричал властно, с удовольствием, как давно уже не кричал на рабочую эту скотину:
— Ты! Как разговариваешь с офицером?! Встать!
Возница, по виду которого нельзя было сказать, что он испугался, неторопливо сошел с брички, стоял, вольно опустив руки, насмешливо глядя Языкову в лицо.
— Коренная вон рассупонилась! — зажатыми в руке перчатками Языков тыкал в сторону лошади. — Сидишь, ворон ловишь!..
Возница повернулся не спеша, мощным коленом придавил хомут коренной лошади, затянул супонь. Сел потом с бесстрастным лицом на свое место, спросил, не поворачивая головы:
— Можно ехать, ваше благородие?
— Трогай, — разрешил Языков, а возница усмехнулся, ткнул коренную кнутовищем под хвост.
— Но-о… Поше-ел. Размечтался, паразит!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Павел Карандеев тоже заподозрил встретившегося ему старика. Более того, убедился, что перед ним не просто калитвянский крестьянин, а член банды, пусть не активный, насильно выполняющий чью-то волю, но в данный момент это значения особого не имело. Дедок выдал себя многим: путался в ответах на вопросы, был насторожен, пуглив. Конечно, встреча с незнакомым человеком на глухой лесной дороге отчасти оправдывает его поведение, но было в нем нечто большее, чем простая человеческая пугливость.
Углубившись в лес, Павел сошел с дороги, круто взял вправо — надо обойти Калитву с севера, прийти в нее ночью. Дом Степана Родионова стоял в одном из проулков слободы, крайним к глубокому оврагу, из него легко было проникнуть на подворье, а оттуда — в сенцы. Хорошо бы, не услышали собаки, а то займется, чего доброго, переполох, может примчаться бандитский патруль.
Павел никогда не был в Старой Калитве, но по примитивным схемам крепко запомнил расположение улиц в слободе и дом Родионова нашел легко.
Степан вышел на условный стук, повел гостя в сарай (в доме Карандееву показываться было нельзя); там до самого рассвета рассказывал Павлу о встрече с Вереникиной, о том, что было очень и очень непросто поговорить с Катей. Но повезло: его, Степана, послали в Новую Калитву по хозяйственным делам, возил запечатанную в конверт бумагу, там, в штабе, он тихонько назвал ей пароль, а она быстро, выбрав момент, передала ему вот это…
Родионов поднялся, на ощупь отыскал где-то в углу сарая тайник, отдал Павлу туго завернутый в тряпицу сверток. Потом рассказал Карандееву, что сам знал о дивизии и полках Колесникова, более подробно о Старокалитвянском полке и его командире — Григории Назаруке… Павел задавал бесконечные вопросы о численности полков, вооружении, коннице, количестве орудий, организации караульной службы, охраны штаба, связях с антоновцами, снабжении продовольствием и фуражом, настроении в полках, дисциплине и тому подобном…
Даже длинная ноябрьская ночь прошла незаметно, надо было уходить. Павел попрощался с Родионовым, пожал его шершавую, видно, много работающую руку, спросил, как, мол, сам-то живешь, Степан? Тот пожал плечами, не сказал ничего. Что говорить? Играет с огнем, ходит, как циркач по проволоке. Приходится участвовать и в набегах, скачет в куче других, постреливает в воздух до поры до времени. Донесут если на него, то несдобровать, у того же Назарука разговор короткий, тут они с Марком Гончаровым, что яблоко от яблони, недалеко укатились.
В слабом свете, падающем из затянутого паутиной оконца, Павел видел теперь лицо Степана, грустное и усталое, но серые большие глаза его смотрели спокойно.
Выйдя во двор, Степан огляделся — никого и ничего вокруг подозрительного не увидел; Старая Калитва спала в этот предутренний стылый час, поднимался над Доном слабый туман, плыл понизу бесцветными почти лохмами, путался в вершинах дубов. Стоял туман и в оврагах, и Родионов порадовался: Павлу это на руку — скользнул с подворья и пропал, растворился в этом жидком молоке. Он дал знак Карандееву, тот быстрыми шагами, почти бегом, пересек двор и огород, перелез через невысокий, покосившийся от времени плетень, спустился в овраг. Теперь все — знакомый уже круг по неглубокой снежной целине и — лес. В лесу же он, что иголка в стогу сена.