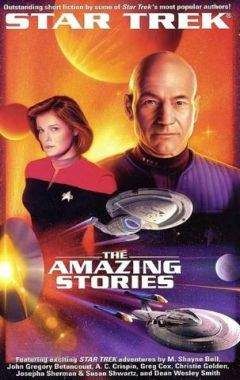Том Шервуд - АДОНИЯ
Та, что несла зонт, также выполняла непростую работу: она пропускала сквозь сеть своего взгляда всех обитателей порта, ожидая появления в ней прочно удерживаемого памятью человека, — невысокого, старого, в коричневом монашеском рубище. Она давно уже заготовила и затвердила первую фразу, с которой бросилась бы к этому человеку: «Как хорошо, что я встретила вас, мастер Альба!» Дальше последовали бы торопливые слова, напоминающие об их давней встрече на берегу моря, об учебном поединке с мастером фехтования Глюзием, о ловле рыбы руками — любая взволнованная чепуха, служащая лишь одной цели: завладеть вниманием страшного старика на четверть минуты или чуть больше — ровно на столько, чтобы этого времени хватило стекольнику подойти к монаху со спины и выстрелить в него — дважды, наверняка. Никто из люгрской компании не ведал, что в это время Альба и недобитый Филиппом Бэнсон направлялись в загородное имение человека, имеющего патент на разведение каретных собак-долматинов.
Адония неторопливо шла вдоль длинного мола. Взгляд её безучастно скользил по людскому муравейнику. По грузчикам, втаскивающим в зыбко раскачивающиеся шлюпки какие-то пухлые тюки. По бывалому моряку с попугаем на плече, рассказывающему кучке ротозеев о схватке с пиратами. По однорукому калеке, несущему лоток со свежей и солёной сардиной. По толстому боцману; пожилой даме; троим деткам этой дамы; чиновнику адмиралтейства; картографу, пробирающемуся сквозь толпу с высоко поднятыми над головой свёрнутой в толстую трубу картой и глобусом; молчаливой компании; состоящей из капитана в зелёной треуголке, хозяина корабля и юнги с обгоревшим на солнце лицом; старому длинноусому турку, присевшему над источающим чадный дым кирпичным каре и поворачивающему над углями вертельца с набравшими аппетитный кирпичный оттенок кусками свинины; пьянице с застарелыми синяками; его дружку со свежеразбитым лицом; надменному иностранному негоцианту с золотой цепью на выпуклом пузе; баталеру; угольщику; крохотному оркестру — шарманщику и флейтисту; обедневшей семейной паре, направляющейся, очевидно, в поисках лучшей доли в Новую Англию (весь багаж у них состоял из старой плоской корзины и топора с замотанным куском парусины лезвием); продавцу счастливых билетов и его тоненькой большеглазой коричневой обезьянке с грустной мордочкой; хохочущему малышу лет четырёх, убегающему от багровой от негодования няньки; нищему с клюкой и в лохмотьях; новой стайке шлюпок и новой веренице меднокожих, блестящих от пота грузчиков; склонившемуся над листом картона бедно одетому босоногому юноше, сидящему на самом краешке разбитого ящика и рисующему портрет позирующего ему важного пьяненького торговца; офицеру с женой, ревниво посмотревшей на дорогое белое платье и кружевной зонтик Адонии.
Сделав круг, Адония вернулась к стоянке карет, расположенной в начале парада[15], уходящего в недра Плимута; оглянувшись по сторонам, вынула из-за лифа блестящий ключик, отомкнула дверцу одной из карет, не поднимаясь на ступеньку, достала с сиденья кувшин, отпила слабого молодого вина, закрыла кувшин, заперла дверцу. Постояла, задумчиво улыбаясь. Подумала: «Отчего это мне так хорошо?» Скользнула потеплевшим взором по мыкающемуся между карет стекольному господину, дрожащему над своим драгоценным ящиком, и вернулась к краю пристани, откуда начинала свой медленный бесцельный поход. Здесь стояла толпа, провожающая в далёкое плавание вскипевший белыми парусами трёхмачтовый грузный корабль. Сонмы солнечных зайчиков плясали, взблёскивая, на тревожимых тёплым озорным ветром волнах. «Нет, в самом деле, отчего так хорошо на душе?» И вдруг, повинуясь мысленному, устремлённому внутрь взгляду, восстала из близкой памяти ускользнувшая было причина: молодой босоногий художник сидел, склонившись, над куском белеющего картона, и закрывали его лицо длинные, слегка вьющиеся, медно-каштановые волосы, и маняще и звонко скрипел зажатый в его длинных, аристократически тонких пальцах бегающий по картону безжалостно испачкавший эти пальцы обточенный в цилиндр уголёк.
Повинуясь горячему призыву затрепетавшего сердца, Адония, слегка задев кого-то зонтиком, стремительно повернулась и помчалась, и полетела — ах, нет, сдержанно, неторопливо пошла вдоль длинного грузового мола.
Вновь мимо грузчиков, лотка с сардиной, турка, распродавшего уже дожарившееся мясо и нанизывающего на вертельца новое, мимо оркестрика, обезьянки и попугая…
Когда она приблизилась к желтеющему дощечками полуразбитому ящику, юный художник как раз закончил портрет. Он выпрямился, встряхнув головой, отбросил назад прядь густых и длинных волос… Адония беззвучно застонала. Это был он — далёкий персонаж с полотна висящей в северном бастионе картины. Открытое, чуть удлинённое лицо, скупой абрис скул, обтянутых смуглой кожей, губы, потрескавшиеся от долгого сидения под солнцем. Мягкий взгляд спокойных, улыбающихся, серых глаз. Левой, чистой рукой художник отшпилил картон от подложенной под него дощечки и протянул портрет пьяненькому купцу. Адония приблизилась ещё на шаг, жадно взглянула. Безусловно, это была рука мастера. Выполненный в два цвета — рыжая охра и чёрный уголь — портрет сохранял безупречное сходство с персоной купца, но имел, кроме того, и мало кем из окружающих понимаемую особенность. При взгляде на самодовольную физиономию потного, терпеливо позирующего купца можно было убедиться, что он — человек «со всячинкой», — и щедр с друзьями, и плутоват в торговых делах, и способен всплакнуть от грустной мелодии, и мелкий тиран в семье, и исправный прихожанин в местной церкви… На портрете же он был изображён в свою лучшую, если можно так выразиться, половину. Только добрые, только светлые качества наполняли рисованные черты трезвого, мудрого, с ласковым взглядом, клонящегося к пятидесяти годам, прожившего трудную и честную жизнь человека.
Надменно выпятив нижнюю губу, пьяный купец свернул, старательно сведя края, рисунок в толстый цилиндр и, вытянув двумя пальцами из-за пояса монетку, величественно расплатился. Увидев, какая вздорная плата была получена художником за великолепный портрет, Адония задохнулась от возмущения. Но художник, весело подкинувший монетку на обсыпанной угольной крошкой ладони, радостным голосом проговорил:
— Счастливый день! И ночлег есть сегодня, и ужин!
Вдруг взгляд его отлетел от монеты и устремился к лицу стоявшей неподалёку под тенью кружевного зонта девушки в белом платье. Адония, потеряв дыхание и опустив взгляд, в непонятной ей самой панике отшатнулась и, повернувшись, пошла вдоль мола, глядя перед собой слепыми глазами. Волна раскалённого жидкого солнца захлестнула её закричавшее от боли и радости сердце. О, как это сердце тянуло вернуться, постоять ещё хотя б миг рядом с пришедшим из её снов, соседствующим с колесом водяной мельницы добрым другом! Тянуло… И в то же время Адония с обречённостью понимала, что никакие силы в мире не заставили бы её сделать это. Почему это произошло — тайна, которую трудно облечь в слова, но это случилось. Жестокая и холодная, способная на любой поступок волчица под одним-единственным взглядом серых доверчивых глаз в один миг превратилась в трепетную, сгорающую от смущения девочку.