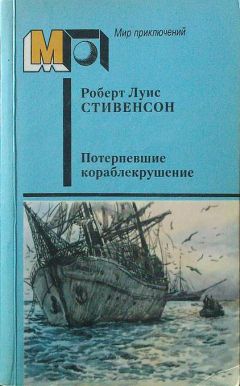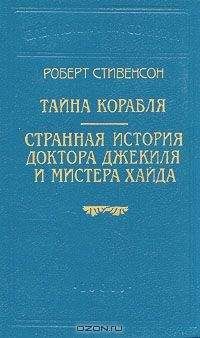Роберт Стивенсон - Тайна корабля
На ближайшем углу я заметил расклейщика афиш: время было уже позднее для этого занятия, и я остановил Пинкертона, чтобы прочесть афишу. Вот что я прочел:
ДВЕСТИ ДОЛЛАРОВ НАГРАДЫ
Служащие и матросы
РАЗБИВШЕГОСЯ БРИГА «ЛЕТУЧЕЕ ОБЛАЧКО»
которые обратятся,
лично или письменно,
в контору Джэмса Пинкертона, Монтана-Блок,
до полудня завтра, во вторник, двенадцатого
получат
ДВЕСТИ ДОЛЛАРОВ НАГРАДЫ
— Это ваша идея, Пинкертон? — воскликнул я.
— Да. Эти не теряли времени, надо отдать им справедливость, — не то, что тот мошенник, — сказал он. — Но, Лоудон, это еще не все. Суть идеи вот в чем: мы знаем, что этот человек болен; ну, так по экземпляру афиши разослано в каждый госпиталь, каждому доктору и в каждую аптеку Сан-Франциско.
Конечно, по отношению к нашему делу расход являлся ничтожным, но все же меня напугала расточительность Пинкертона, и я высказал это.
— Что значат теперь несколько долларов? — ответил он угрюмо. — Развязка наступит через три месяца.
Мы пошли дальше молча и не без внутренней дрожи. Даже у «Пуделя» мы ели неохотно и редко обменивались словами, и только после третьего бокала шампанского Пинкертон откашлялся и бросил на меня умоляющий взгляд.
— Лоудон, — сказал он, — вы не хотели говорить об одном предмете. Я выражусь только обиняком. Это не потому, — он запнулся, — не потому, что вы недовольны мной? — заключил он с дрожью в голосе.
— Пинкертон! — воскликнул я.
— Нет, нет, погодите, — заторопился он, — дайте мне сначала высказаться. Я ценю деликатность вашей натуры, хотя и не могу подражать вам в этом; и очень хорошо понимаю, что вы скорее умрете, чем скажете, но все-таки вы можете чувствовать себя разочарованным. Я думал, что лучше сумею обделать это сам. Но когда я увидел, как трудно приходится добыть нужную сумму в этом городе, когда я увидел, что сам Дуглас Б. Лонггерст отказывается от предприятия, то, говорю вам, Лоудон, я начал отчаиваться; и — я, может быть, наделал ошибок, без сомнения, тысячи людей сделали бы лучше моего, — но даю вам честное слово, я сделал все, что мог.
— Мой бедный Джим, — сказал я, — точно я когда-нибудь сомневался в вас! Точно я не знаю, что вы сделали чудеса! Весь день я восхищался вашей энергией и находчивостью. Что касается того предмета…
— Нет, Лоудон, не нужно, — ни слова больше! Я не хочу слышать, — воскликнул Джим.
— Ну, сказать правду, мне бы и не хотелось говорить вам, — ответил я, — потому что это вещь, которой я стыжусь.
— Стыдитесь, Лоудон? О, не говорите этого, не употребляйте такого выражения даже в шутку! — протестовал Пинкертон.
— Разве вам не случается делать что-нибудь, чего вы потом стыдитесь? — спросил я.
— Нет, — ответил он, вытаращив глаза, — зачем? Я иногда жалею потом, если выходит не то, на что я рассчитывал. Но я не вижу, почему бы мне стыдиться.
Я восхищался простотой характера моего друга. Затем я вздохнул.
— Знаете ли, Джим, о чем я всего больше жалею? — сказал я. — О том, что мне не придется быть на вашей свадьбе.
— На моей свадьбе! — повторил он тоже со вздохом. — Не бывать теперь моей свадьбе. Я сегодня же верну ей слово. Это-то и угнетало меня весь день. Я чувствую, что не имел права после обручения браться за такое рискованное предприятие.
— Ну, Джим, ведь это моих рук дело, и вы должны сердиться на меня, — сказал я.
— Ни крошечки! — воскликнул он. — Я так же увлекся, как вы, только вначале не был так решителен. Нет, я должен благодарить себя самого, но это плачевная штука.
Джим отправился исполнять свою печальную миссию а я вернулся в контору, зажег газ и сел, чтобы обдумать события этого достопамятного дня: странные обстоятельства дела, которые начали выясняться, исчезновения, страхи, огромные суммы денег и опасную и неблагородную задачу, предстоящую мне в недалеком будущем.
Трудно при ретроспективном обзоре подобных дел не приписать себе в прошлом ту степень знания, которой мы обладаем теперь. Но я могу сказать, оставаясь верным действительности, что я томился в тот вечер лихорадкой подозрительности и любопытства, истощал свое воображение в придумывании решений, которые отбрасывал, как не соответствующие фактам, и находил в окружавшей меня тайне стимул для моего мужества и целебный бальзам для совести. Я решил, что не могу отступать ни в коем случае. Контрабанда — одно из самых скверных преступлений, потому что, занимаясь ею, мы обворовываем всю страну prorata, и, следовательно, еще более разоряем бедняка: продавать контрабандный опиум — преступление особенно черное, потому что оноисродни не столько убийству, сколько бойне. Все эти пункты были для меня совершенно ясны; моя симпатия вооружалась против моего интереса; и не будь Джим замешан в это дело, я бы почти с удовольствием думал о возможной неудаче. Но Джим, все его состояние, его женитьба зависели от моего успеха, а я ставил интересы моего друга выше интересов всех островитян Тихого океана. Это жалкая личная мораль, если угодно, но это моя мораль, лучшая, какой я обладаю, и я не столько стыжусь того, что ввязался в это дело, сколько горжусь тем, что (пока я занимался им, и ради моего друга) вставал рано, а ложился поздно, лично руководил всем, спокойно встречал опасности и хоть раз в жизни вел себя как настоящий мужчина. В то же время я желал бы иного поприща для приложения энергии, и был тем более благодарен за смягчающий элемент тайны. Не будь его, я бы хоть и взялся за дело, но вряд ли с таким рвением; и если я испытывал в этот вечер нетерпеливое желание отплыть в море, поскорее добраться до острова и разбившегося судна, то потому, что рассчитывал наткнуться там на ответ на сотни вопросов и узнать, почему капитан Трент обмахивал свое багровое лицо на бирже, и почему мистер Диксон бежал от телефона в меблированном доме на Миссион-стрит.
ГЛАВА XI
В которой Джим и я направляемся разными дорогами
Я чувствовал себя несчастным, засыпая; и в таком же настроении открыл глаза утром, со смутным сознанием какого-то еще не определившегося бедствия, с затекшими ногами и тяжелой головой. Я, должно быть, лежал некоторое время пассивный и тупонесчастный, прежде чем сообразил, что кто-то стучится в дверь. Тут мои душевные силы разом вернулись на свои места, и я вспомнил аукцион, разбившееся судно, Годдедааля и Нэрса, Джонсона и Черного Тома, и вчерашние хлопоты, и разнообразные обстоятельства наступающего дня. Эта мысль подействовала на меня как труба в час битвы. Я вскочил с постели, прошел через контору, где Пинкертон спал крепким сном на складном диване, и остановился в дверях, в своем ночном одеянии, принять гостей. Впереди, в качестве церемониймейстера, стоял улыбающийся Джонсон. За ним следовал, в парадной шляпе и с сигарой в зубах, капитан Нэрс, признавший наше старое знакомство коротеньким кивком. За ним, в свою очередь, группа матросов, новая команда «Норы Крейны», стояла на площадке лестницы, полируя стену спинами и локтями. Им я предоставил размышлять на досуге, а обоих командиров немедленно ввел в контору, где, взяв Джима за плечо, медленно вернул его в сознание. Он сел, видимо, еще не придя в себя, и уставился на нового капитана.