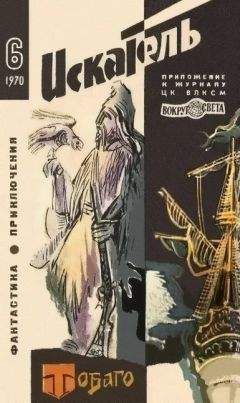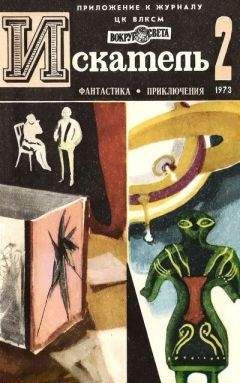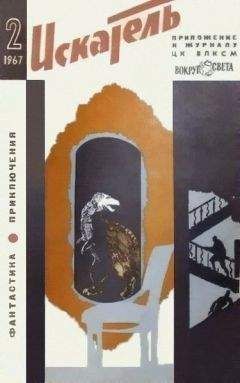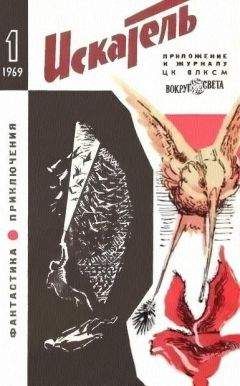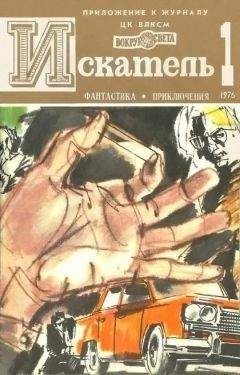В. Меньшиков - Искатель. 1970. Выпуск №1
— Спутник, я Вихрь, — повторил Ларин, старательно выговаривая каждое слово. — Реактор заморожен. Хода не имею. Прошу буксир.
После мгновенья тишины космос взорвался нестройным хором криков. Говорили и кричали разом и руководитель испытаний, и его дублер, и спасательный бот, и даже главная рация старт-спутника.
— Ура!
— Победа!
— Слава Ларину!
А потом глухо прозвучал чей-то слабый, сдавленный голос, и наступила оглушающая тишина. Только шорох далеких и древних инозвездных шумов нарушал ее. И в этой тишине все тот же слабый голос с трудом проговорил:
— Ан… Ан… Андрей Николаевич!
Ларин узнал голос Шегеля. И мягко, устало улыбнулся.
Дмитрий БИЛЕНКИН
ДАВЛЕНИЕ ЖИЗНИ
Он шел по красной холодной равнине уже вторые сутки — прямо, только прямо. На нем был приметный ярко-синий комбинезон, но надеждой, что его найдут, он не обольщался. Это было бы чудо, если бы в однообразный свист марсианского воздуха вторглось гудение мотора.
Он шел походкой заводного автомата — мерной, экономящей силы: шесть километров в час, ни больше ни меньше. Мысли тоже были подчинены монотонному ритму. Из пройденного пути в память запали какие-то обрывки; все остальное слилось в туманную полосу, а прежняя жизнь отдалилась куда-то в бесконечность, сделалась маленькой и нереальной, как пейзаж в перевернутом бинокле.
Зато и страха не было. Было тупое движение вперед, была тупая усталость в теле и тупая бесчувственность в мыслях. Лишь все сильней болело левое плечо, перекошенное тяжестью кислородного баллона (правый уже был израсходован и выброшен). А так все было в порядке: он был сыт, не испытывал жажды, электрообогрев работал безукоризненно, ботинки не терли и не жали. Ему не надо было бороться с угасанием тела, лишенного притока жизненной энергии, не надо было ползти из последних сил, повинуясь уже не разуму, а инстинкту. Техника даже теперь избавляла его от страданий.
Снова и снова он машинально поправлял сумку, чтобы уравновесить нагрузку на плечо. Всякий раз, когда он это делал, положение головы изменялось, и свист ветра в ушах (точнее, в шлемофонах) то усиливался, то спадал. Несмотря на ветер, воздух был чист и прозрачен, близкий горизонт очерчивался ясно, фиолетовое небо, как и почву, прихватывал мороз, отчего редкие звезды в зените горели бестрепетно и сурово.
Он еще испытывал удовольствие, пересекая невысокие увалы. Подъем был не крут, он не сбавлял шагу, а при спусках даже ускорял и радовался, что холмы помогают идти быстрей, хотя это был явный самообман, и он знал это. В детстве он любил воображать, что не идет, а едет; что он сам автомобиль, и вместо ног у него четыре колеса. Приятно было самому себе «наддавать газ», то есть идти быстрей, «выворачивать руль», избегая столкновения с прохожим, и «жать на тормоза». Сейчас он тоже казался себе машиной.
Постепенно отбрасываемая им тень удлинялась. Чем ниже опускалось солнце, тем красней делалась равнина. Склоны увалов пламенели. Но за неровностями уже копились сумерки. Они затаились там, словно бархатные лапы хищника. Ветер как-то незаметно смолк. Все оцепенело, и на Севергина — так его звали когда-то, но теперь это не имело значения — повеяло той тревогой, которая предшествует приходу ночи, когда человек одинок и беззащитен среди пустыни.
Он посмотрел на солнце и почувствовал невыразимую тоску. Значит, он все-таки надеялся в глубине души, что его спасут… Конец светлого дня означал конец надежды.
Издали от синюшных вздутий эретриума, пересекая тени, прокатилось что-то живое, приблизилось к Севергину. Взгляд маленьких розово блеснувших глаз зверька уколол человека. Севергин положил руку на пистолет. Но зверек, удостоверившись в присутствии чужака, не задерживаясь, побежал по своим делам. Какой-то мудрый инстинкт, видимо, подсказал животному, что это двуногое не имеет отношения к Марсу, что оно случайно здесь, случайно живо и не случайно исчезнет еще до того, как солнце вновь окрасит равнину.
Севергин чуть не выстрелил животному вслед, так ему стало жалко себя! Кто-то словно перевернул бинокль, и прошлое ожило. То прошлое, которое предрешило все. Почему именно его природа сделала не таким, как все? Почему, почему?
Наклонив голову и почти обезумев, он побежал навстречу крадущимся теням. Мышцы, как он и ожидал, тотчас налились свинцом, но он гнал и гнал себя вперед, точно казня свое тело.
Метров через сто он сдался. Любой другой человек его возраста и здоровья осилил бы и тысячу. А, ему хватило ста, чтобы изнемочь.
Так было всегда.
Он родился не таким, как все. Беда была не в том, что он, скажем, не мог есть хлеба — тысячи людей не могут есть чего-то: кроме неудобств, это ничего не создает. Природа отказала ему в более важном — в силе. Он был не болезненней других ребят, но сдыхал на стометровке, не мог подтянуться на турнике, плакал, пытаясь одолеть шведскую стенку.
Нет, ему были доступны длительные физические нагрузки, такие, как ходьба на большие расстояния. Дело было в другом. На мотор, пока он не разработался, ставят ограничитель. А вот в его организме такой ограничитель был поставлен навечно. Он не был способен на усилия резкие, требующие большого выхода энергии, как привернутый фитиль не способен на яркое пламя.
Сверстники снисходительно жалели его, а учителей физкультуры он доводил до изнеможения. Они все надеялись, что смогут развить его организм обычными приемами. Физкультура была кошмаром детства и юности Севергина. При виде брусьев, колец он трясся, как осужденный на пытку. «Давай, давай!» — кричали ему ребята в этих пропахших потом и пылью физкультурных залах. И он заранее мертвел, зная, каким смехом (беззлобным, но оттого не менее обидным) они встретят его нелепый, позорный прыжок через «козла».
Спас его четвертый или пятый по счету врач, к которому отвели его встревоженные родители. Этот врач не нашел ничего ни в сердце, ни в легких, как и другие врачи, но не пожал плечами, не посмотрел на мальчика как на симулянта, а спокойно сказал:
— Отклонения в обмене веществ, похоже, генетические. Исправлять их мы научимся не скоро. Не огорчайтесь. Составим для вас особую программу физических упражнений. Футболистом вам не быть, а в остальном…
Кошмар рассеялся навсегда.
Вот чем все это кончилось — печально гаснущей равниной Марса, сумасшедшим бегом от самого себя…
Севергин заставил себя лечь, устроил ноги повыше, чтобы они лучше отдохнули. Эти простые движения успокоили его. Вспышка отчаяния вернула ему трезвость.