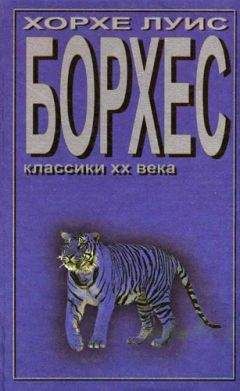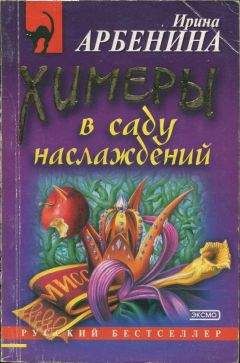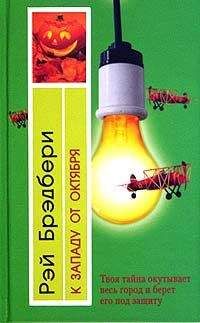Николай Агаянц - Поединок. Выпуск 2
— Здесь через два квартала — панамское посольство. Попробуем укрыться в нем.
У дипломатического представительства Панамы вдоль невысокой ажурной ограды прохаживались солдаты. Четверо стояли на въезде, под аркой.
— Не проскочим, Глория. Не давить же этих стервецов прямо на посольской территории. Хунта потребует тогда нашей выдачи.
Глория не ответила.
Разогнала машину.
Проскочила мимо ворот — у патрульных не вызвал никаких подозрений дорогой автомобиль, мчавшийся по противоположной стороне, — и вдруг, круто повернув руль влево, под носом у оторопевших солдат врезалась в ограду.
Скрежет металла по металлу. Ажурная решетка разлетелась от сильного удара, и «мерседес», чуть не опрокинувшись, на двух левых колесах выскочил на газон, прочертив его глубокой бороздой.
Из посольского особняка к ним навстречу бежали люди. Солдаты не решились пустить в ход оружие.
Лишь во второй половине дня Глория смогла дозвониться до Фрэнка, который все утро провозился с Леспер-Медоком, вызволяя своего незадачливого соотечественника из концлагеря на стадионе «Насьональ».
О’Тул приехал и с тех пор каждый день навещал свою невесту.
27 сентября он вызвал Глорию из комнаты, где она ютилась вместе с девятью другими женщинами (посольство было переполнено людьми, спасавшимися от преследований военной хунты).
— Тебе привет от отца. Виделся с ним мельком. Он здоров. Отлично выглядит. Хуан обещал на днях отправить его в Чильян. Там, у родственников, ему будет спокойнее после того, как ты уедешь.
— У меня, Фрэнк, нет еще разрешения на выезд из страны.
— Разрешение скоро получишь. Я навел справки. Был в МИДе, на приеме у генерала Оскара Бонильи.
— Ох, родной, как бы все эти хлопоты обо мне не кончились для тебя плохо...
О’Тул задумчиво потер переносицу и улыбнулся с мальчишеской беспечностью:
— Я, как известно, дряхлый психостеник. А стало быть, человек мнительный. Но похоже, что за мной и впрямь теперь приглядывают. И не только из-за тебя, Гло. Из-за моих последних корреспонденции тоже. Они вызывают все большее разочарование и раздражение у моих высокопоставленных заклятых друзей. Опасаюсь, как бы не устроили обыск в номере.
— А разве у господина буржуазного журналиста есть что скрывать от властей? — она и не думала скрывать своей иронии.
И тогда Фрэнк впервые без утайки поделился с Глорией запутанной историей сложных своих взаимоотношений с торонтским издательством «Люис и сын», Джеймсом Драйвудом и Диком Маккензи, адмиралом Карвахалем и сенатором де Леон-и-Гонзага, Марком Шефнером и полковником Эстебаном Кастельяно. («Не имел сомнительного счастья лицезреть покойного в генеральских погонах».) Во всех подробностях впервые рассказал о перипетиях своего аргентинского вояжа и вообще о работе сыскного бюро «О’Тул энд О’Тул инкорпорейтед».
Разговор был долгим. И трудным. Глория никак не могла взять в толк, почему он прежде упорно скрывал от нее правду.
— Только, ради бога, не воображай себя Христофором Колумбом, открывшим Америку, — сказала Глория, прищурив погрустневшие зеленые глаза. — Многое из того, что тебе удалось раскопать, было известно тем, кому знать надлежало. Меры по обезвреживанию правых принимались... Все же некоторые из документов, которые ты раздобыл — ну, например, полученные от Монти, — будь они своевременно опубликованы, могли бы помочь нам в разоблачении происков реакции.
— То, что я раскопал, войдет в книгу, которую я начал писать. Это мой скромный вклад, дорогая компаньера Рамирес, в международную кампанию солидарности с демократами Чили... — Он открыл атташе-кейс и извлек оттуда две толстые тетради и объемистый пакет с бумагами и фотографиями. — Возьми. Здесь наброски и документы. Хранить их в «Каррера-Хилтон» больше не решаюсь. Пусть останутся у тебя. Прогляди на досуге, если разберешь почерк. Увезешь их с собой в Панаму. Я узнаю, кто из дипломатов полетит тем же рейсом, и попрошу пронести все это в самолет, минуя таможенный досмотр. Билет я тебе достал на 11 октября. С превеликим трудом. Сам выберусь отсюда, как только улажу последние дела. Встретимся в Панама-сити. А потом, — Фрэнк привлек к себе невесту, — потом в Канаду.
Весеннее сентябрьское солнце ярко светило, подчеркивая мертвенную оцепенелость города, захваченного солдатами, которые, хотя и говорили по-испански, говорили с чилийской напевностью, были оккупантами. Жестокими, бездушными. Фрэнк с горечью подумал об этом, когда отъезжал от посольства. Даже не оборачиваясь, не глядя в зеркальце, он знал, что «тойоту» неразлучной, привычной за последнюю неделю тенью, преследует приземистый темно-коричневый «форд».
В зимнем саду гостиничного холла экзотические рыбки нервно перебирали плавниками под пристальным взором слепых деревянных масок. Кто-то из темно-коричневого «форда» вошел следом. У Фрэнка пересохло в горле, на губах горчило, и он направился прямиком в бар.
Неизменный Игнасио с отрешенным видом протирал стаканы. На дальнем конце шеренги пустующих табуретов пристроился субъект из «форда». Заказал себе пиво.
— Двойное виски. Разбавлять не надо, — попросил О’Тул.
Бармен покосился на верткоглазого любителя пива. Достал потертый кожаный стаканчик:
— Сыграем в кости, мистер О’Тул?
— В другой раз. Пойду отдохну. Устал я очень.
В дверной щели номера торчал уголок конверта.
По листу мелованной бумаги, спотыкаясь и прихрамывая, разбегались шаткие стихотворные строки:
Все, что упущено когда-то,
Нельзя вернуть!
И путь лежит в крови заката —
Последний путь.
— Что за чушь? — Фрэнк недоуменно повертел в руках листок.
На обороте увидел приписку:
«Дорогой друг!
Надоела до ужаса нынешняя свистопляска — до чего довела эту милую страну фашиствующая камарилья! С меня хватит. Улетаю домой, благо подвернулся случай ускорить отъезд: вчера поздно вечером неожиданно отказался от билета оператор из Би-Би-Си. Все утро я пробегал, оформляя документы в МИДе. Очень хотел проститься с тобой, старина. Но не застал.
Нежный поцелуй Глории. Всегда твой Жак».
О’Тул покачал головой. Очаровательный бахвал, пустомеля Жак! Где эссе, в котором ты грозился излить свою израненную душу? Где обличительная сенсационная книга о злодействах хунты? Слова... Одни слова. Даже Шефнера отхлестать по щекам не смог — при встрече смутился, промямлил что-то конфузливое...
Мало быть добрым, думал Фрэнк, перечитывая письмо Леспер-Медока, мало быть честным и даже, как это принято теперь говорить, прогрессивным. Надо действовать.