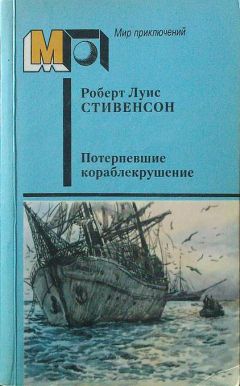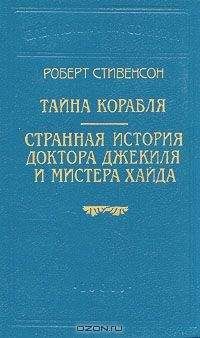Роберт Стивенсон - Тайна корабля
Тем временем мы подплываем к назначенному пункту. Я поднимаюсь на мостик, привлекая взоры всех пассажиров.
— Капитан, — говорю я ясным, звучным, далеко разносящимся голосом, — по-видимому, большинство публики решило в пользу маленькой бухты за Он-Три-Пойнтом.
— Ладно, мистер Додд, — дружелюбно отвечает капитан, — мне все едино. Я не помню в точности того места, которое вы назвали; постойте здесь и будьте моим лоцманом.
Я так и делаю, указывая направление моим жезлом. Я руковожу плаванием к невыразимому удовольствию публики, потому что я (зачем мне отрицать это?) популярный человек. Мы медленно приближаемся к устью травянистой долины, орошаемой ручьем и усеянной соснами и секвойями. Якорь брошен, лодки спущены две из них уже нагружены напитками И закуской для импровизированного бара, а Оркестр пионеров, сопровождаемый лучезарными ослами, направляется к берегу под увлекательные звуки: «Выходите вечерком, девушки Буффало!» Согласно нашей программе, один из ослов должен, по своей неуклюжести, уронить во время высадки в воду свою бутафорскую секиру, отчего веселью компании нет конца. В одном из таких случаев секира всплыла. И веселье направилось не по надлежащему адресу.
Минут через десять-двадцать лодки возвращаются, участники выстраиваются на палубе по артелям, и вся компания переправляется на берег, где ее ожидают оркестр и импровизированный бар. Тут выступают на сцену корзины, Нагроможденные на берегу под строгой охраной дюжих ослов с секирами на плечах. Здесь помещаюсь я, с записной книжкой в руке, под флагом с надписью «Пожалуйте за корзинами». Каждая корзина содержит полный припас на двадцать человек: холодные закуски, тарелки, стаканы, ножи, вилки и ложки. Трогательное печатное воззвание, набросанное лихорадочным пером Пинкертона и приклеенное на внутренней стороне крышки, умоляет беречь стекло и серебро. Пиво, вино и лимонад уже текут из бара, и отряды по двадцать душ отправляются в рощу, с бутылками под мышкой и с корзинами, подвешенными на палках. Там они угощаются до часу, в довольно сомнительном уединении, на таком расстоянии, откуда можно слышать оркестр. С часу до четырех происходили танцы на траве; бар действовал вовсю; а почетный старшина, уже и без того выбившийся из сил, стараясь развеселить скучные компании, должен был теперь неутомимо выплясывать с наименее интересными дамами. В четыре раздавался гудок, а в половине пятого мы снова были на пароходе — пионеры, разобранный железный бар, пустые бытылки и все остальное; и почетный старшина, освободившись наконец, блаженствовал в капитанской каюте за содовой водой с виски и книгой. Я говорю, освободившись, но еще оставалось шумное прощание на пристани и скромное путешествие в контору Пинкертона с двумя полисменами и дневной выручкой в мешке.
Я описал обычный тип пикников. Но мы лучше угождали вкусам Сан-Франциско в специальных празднествах. «Пикник Старых Времен», шумно возвещенный в афишах, начинавшихся словами: «Слушайте, слушайте!», и привлекший множество рыцарей, монахов и кавалеров, попал под несвоевременный дождь и представлял во время возвращения в город самое плачевное зрелище, какое мне когда-либо случалось видеть. Забавным контрастом и нашим главным успехом был «Сбор кланов», или шотландский пикник. Никогда еще не выставлялось разом на публике столько белоснежных колен, а судя по преобладанию «Королевских сенешалей» и количеству орлиных перьев, мы были очень высокородной компанией. Я выставлял напоказ шотландскую линию моих предков и вызвал аплодисменты как начальник клана, делая проверку. Только одно облачко омрачило этот счастливый день. Я захватил с собой большой запас национального напитка «Настоящая старая о'бленда Роброя Мак-Грегора», и она несомненно оказалась благородным напитком, так как мне стоило немалого труда перетаскивать на борт безжизненные, по-видимому, тела вождей с четырех до половины пятого.
На один из наших обычных праздников явился инкогнито сам Пинкертон, с алгебраичкой под ручку, и показал себя душой и сердцем своей артели. Мисс Мэми оказалась недурненькой барышней с большими светлыми глазами, с очень хорошими манерами и с потоком самых приличных выражений, какие я когда-либо слышал из человеческих уст. Так как инкогнито Пинкертона хранилось строго, то мне не пришлось много пользоваться обществом этой леди; но потом я узнал, что она отозвалась обо мне как «о самом остроумном джентльмене, с каким когда-либо встречалась». «Да исправит Бог твое понятие об остроумии», — подумал я; но не могу скрыть, что таково было общее мнение. Одна из моих острот даже приобрела популярность в Сан-Франциско, и я сам слышал ее в ресторанах. Под конец почти не осталось людей, не знающих меня; мое появление вызывало шепот. Если кто-нибудь спрашивал: «Кто это?», ему отвечали: «Это? Дромадерный Додд!», или с уничтожающим презрением: «Так вы не знаете мистера Додда, устроителя пикников? Ну!», — и я думаю, что такое незнание действительно говорило о печальной судьбе; потому что наши пикники, хотя и немножко вульгарные, отличались весельем и невинностью золотого века. Я уверен, что ни один народ не развлекается так благодушно и искренно; и несмотря на заботы почетного старшины, я часто был очень доволен тем, что участвую во всем этом.
В самом деле, тут были только две неприятные вещи. Первая — мой ужас перед девицами, против которых я (по обязанностям моего положения) был беззащитен. Вторая, менее серьезная, была еще неприятнее. В раннем возрасте: можно сказать, на коленях матери, я приобрел незавидную привычку, от которой никогда с тех пор не мог отделаться: распевать «Перед самой битвой». Голосишко у меня был слабенький — мои лучшие ноты едва можно было слышать за обеденным столом, а верхний регистр можно было принять скорее за молчание. Знатоки говорили мне, кроме того, что я пою без выражения; и будь я лучшим певцом в мире, я бы, обладая зрелым вкусом, не выбрал для пения «Перед самой битвой». Несмотря на все эти соображения, я на одном из пикников, замечательно унылом, истощив все способы развеселить публику, пропел от отчаяния свою песню. С этого дня моя участь была решена. Был ли у нас какой-нибудь бессменный пассажир (хотя я никогда не мог открыть такого) или сами железо и дерево парохода сохранили воспоминание о моей песне, только на каждом последующем пикнике возникала молва, что мистер Додд певец; что мистер Додд поет «Перед самой битвой»; и наконец, что мистер Додд сейчас споет «Перед самой битвой». Так что в конце концов это сделалось таким же неизбежным пунктом программы, как потопление бутафорской секиры; мне приходилось каждое воскресенье исполнять мою плачевную арию, по окончании которой следовали благодушные аплодисменты. Могу отметить, как сокровенную черту человеческой природы, что меня всякий раз просили повторить.