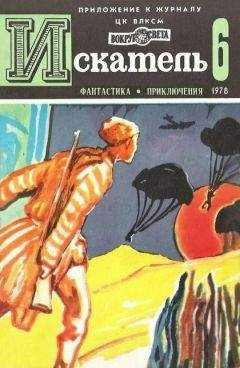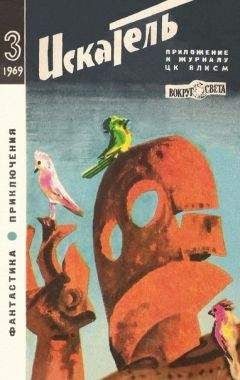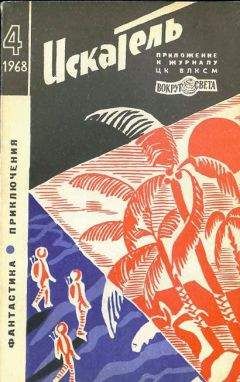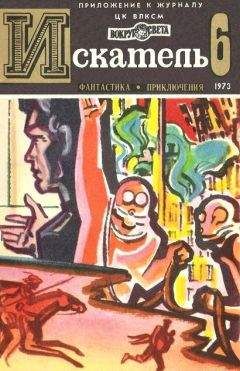Александр Буртынский - Искатель. 1978. Выпуск №4
Он приглашающе тронул Андрея за плечо, и они направились вниз по тропе к полю…
— Я к вам вообще-то собирался, — сказал Андрей примирительно. — А зачем, собственно, в хутор?
— Не дает мне покоя этот выстрел, а тут заявился ты, вместе и пройдемся, обычная ночная проверка. Посмотрим, как живут-поживают.
— А… удобно?
— Хе, участковому положено, а не просто удобно. Не нравится мне этот выстрел, совсем не нравится. Гостей сейчас в хатах полным-полно, каждый день новые, ловкому человеку затеряться легче, чем на сапог плюнуть.
То, что Довбня называл «гостями», был пришлый, приезжий люд из центральных областей, кинувшийся сюда, в плодородное Полесье, от разрухи и голода послевоенного неурожайного лета. Еще на станции в полковом городке видел Андрей мчавшиеся товарняки, облепленные людьми с котомками и мешками. Засуха вконец подломила кое-где оставшихся без крова крестьян, и они ехали сюда, к незнакомым собратьям, повинуясь извечной надежде на выручку — купить картошки, зерна, а то поработать в приймах, только бы пережить тяжелую годину.
Хаты, что победней, были переполнены. Спертым духом прелого сукна, портянок, человечьей беды ударяло в лицо, едва Довбня распахивал дверь в сенцы. Люди спали на лавках, на полу, и не сразу можно было отыскать самих хозяев.
Старшина проверял документы, покачивал головой, иные были вовсе без «бумаги», но сам вид их — изможденный, замученный да торопливый брянский говорок в ответ на вопросы милиции начисто исключали всякие подозрения.
— Рази нам тут праздник! — вдруг вздымалась из темного угла встрепанная спросонок бабья голова. — Я вот с дитем. Нам бы мучицы малость, мы и уедем. Смилуйся, ради господа…
— Да кто ж тебя гонит, спи…
— Вот и документ…
— Не надо документа. Отдыхай, мать. А то вон дите спугаешь. — И доставал из бездонного кармана запыленный осколок сахара, совал бабе для малыша.
— Дай тебе бог, начальник…
Довбня отворачивался, махал рукой. Как бы невзначай заводил разговор о крестьянских делах, мужики оживлялись.
— Нам бы до весны обернуться, весной-то и солнце кормит. А там, гляди, и отсеемся. Семена-то нашему «Рассвету» дали, бережем, а уж сами ладно-ть, председатель отпустил, нешто мы задержимся тута, резону нет, семьи нас ждут. А пока, стал быть, вот горюем.
— Не забижают хозяева?
— Что вы, бог с вами. Делются.
— Ну-ну…
Оставляя хату, Довбня, как правило, зажигал в сенцах спичку и, если обнаруживал в углу покрытую мешком кадушку, звал хозяина с лампой.
— Совесть есть, Прокопий? Хоть бы постояльцев постыдился, такой год, а ты самогонку завел…
И Прокопий, или Сафон, или Грицко начинали клясться всеми святыми, что поставлено для выпечки хлеба, какой самогон! Но Довбню не так-то просто было обмануть, он брал тесто на язык, каким-то ему одному известным образом определял его истинное назначение и уж тут не мешкая просил соли. По тому, как торопливо подавал хозяин соль, радуясь, что легко отделался, ясно было, что Довбня прав.
Довбня для порядка бросал горсть в опару — самогона с такой приправой не получится.
И снова они выходили в завьюженную ночь, осиянную каленной морозцем луной.
Внезапно Довбня остановился. Невдалеке за плетнем яростно залаяла собака.
— Заметил? Свет-то в окне погас? Или почудилось?
— Вроде бы.
Довбня торопливо зашагал к плетню, Андрей едва поспевал за ним. Взойдя на крыльцо, старшина задергал чугунную подвеску, в хате послышался плач. Он забухал в дверь железным своим кулаком, плач усилился, казалось, верещали уже хором. Напрасно старшина кричал в глухую, обитую мешковиной дверь.
— Открывай. Настя! Оглохла ты, что ли!
Только детский рев в ответ. Даже неловко стало — врываются на ночь глядя в чужой дом…
— В чем дело? — спросил Андрей.
— Щиплет их, не иначе.
— Не понял.
— Детей щиплет, шоб орали: боимся, мол, потому не открываем. — Довбня соскочил с крыльца, отступил в тень, вытянутой рукой затарабанил в окно. Андрей невольно прижался к стенке, словно и впрямь ждал выстрела: под луной оба были как на ладошке.
Наконец-то в сенях завозились, звякнула щеколда.
— Это вы, начальник? Заходь, ради бога! — донесся звонкий молодой голос, и в приоткрытой двери мелькнуло яркое платье.
С койки за ширмой еще доносилось неохотное ребячье хныканье.
Слева на печке виднелась белоснежная, чуть примятая постель под клетчатым пледом. С подоконника зеленовато поблескивала початая бутыль, на табуретке у стола лежала стопка глаженого белья.
Потом он увидел и саму хозяйку, легко скользнувшую из-за ширмы молодуху, неестественно возбужденную, в праздничных монистах на высокой груди. От нее так и веяло жаром, запахом вина и дешевых духов.
— А я думаю, хто стукал. А то ж вы…
Неуловимый жест, будто взмах крыла, и табуретка очутилась на середине комнаты, белье исчезло. А сама хозяйка уже протягивала Довбне ладошку; веселая, с откровенным бабьим вызовом и легким смятеньем в больших, как мокрые сливы, глазах.
— Здравствуй, здравствуй, Настя…
— То ж я и кажу — здоровеньки булы, гостюшки, шо ж так, без предупрежденья?
— И так видно — ждала.
— Ой, вы скажете! Да я тилько свет погасила. — И тотчас тронула Андрея за руку, словно всего обожгла. — Ой, який гарный офицер, може, присядете, чайку сготовлю.
— Да… нет, как старшина.
— Даже белье не успела прибрать, — оборвал Довбня, метнув в Андрея косой взгляд. — Мужское?
— Да то ж Степино. Маты палец поризала, то я ж парубка выручила. Ну шо ж вы, лейтенант… А то приходьте завтра на блины.
— Степаново, значит, — повысил голос Довбня. — Может, Иваново или еще чье-нибудь?
— А вы сами спытайте, — как бы не обращая внимания на старшину, хлопотала она вокруг Андрея; может быть, и впрямь решила попотчевать — бросила на стол плетенку с пирожками. Довбня вдруг ругнулся, шумно выдохнув сквозь сжатые зубы, и заиграл желваками:
— Ну-ну…
— Брезгуете?
— Это оставь другим гостям. Нам не надо, сыты! — Решительно заглянул в соседнюю комнату. Отдернул занавеску в закутке, где кутались в одеяло двое глазастых ребятишек. И все это не глядя на теребившую мониста хозяйку, для которой в эту минуту, казалось, не было ничего важнее «гарного» лейтенанта.
Старшина снова процедил:
— Ну-ну! — И, не оборачиваясь, жестко кинул Андрею: — Айда, лейтенант! Кончай веселье…
Собака все еще захлебывалась в будке у сарая, рвала цепь. Довбня посветил фонариком по снегу, но все подворье вокруг темневшего сарая было укрыто нетронутой белизной. С затаенной хмурью, в которой почудилось что-то похожее на упрек, сказал: