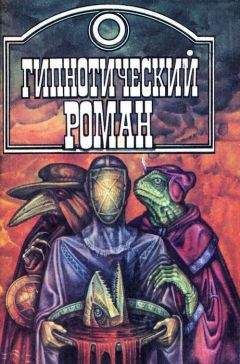Густав Эмар - Маисовый колос
— Не понимаю, как вы осмелились написать, что лишь только Лаваль вступит в Буэнос-Айрес, то в тот же день всем женщинам семейства Розаса отрежут носы? — продолжал дон Мигель, будто не слыхав вопросов своей собеседницы.
— Что делать, увлеклась своим справедливым негодованием! В сущности, это были одни пустые слова, как вы и сами понимаете, дон Мигель... Ну, так как же, сохранили ли вы это письмо или уничтожили? — приставала донна Марселина, силясь изобразить на своем обрюзгшем лице что-то вроде улыбки.
— Я уже сказал вам, что взял тогда это письмо, чтобы спасти вас.
— Вы бы лучше разорвали его.
— Этим я сделал бы страшную глупость.
— Почему же?
— Потому что я тогда лишился бы возможности фактически засвидетельствовать ваш патриотизм в случау переворота. Я забочусь о том, чтобы ваши услуги, которые вы оказываете мне, были впоследствии достойно вознаграждены.
— Только с этой целью вы и бережете письмо?
— До сих пор вы не давали мне повода беречь его для какой-нибудь другой цели, — отвечал дон Мигель, подчеркивая каждое слово.
— Поверьте, дон Мигель, что я никогда не подам вам повода желать мне зла! — воскликнула бедная женщина, вздохнув с облегчением.
— Тем лучше для вас, — равнодушно промолвил молодой человек. — Однако, поговорим лучше о чем-нибудь другом... Видели вы в последнее время Дугласа?
— Видела третьего дня, в тот же вечер он взял к себе на борт пять человек, из которых двое были рекомендованы мной.
— Вам нужно будет повидаться с ним сегодня.
— Сегодня?
— Да, и притом немедленно.
— Хорошо. От вас я пройду прямо к нему.
Дон Мигель отправился в свой кабинет, взял там письмо, которое он ночью положил под чернильницу, вложил его в чистый конверт, обмакнул перо в чернила и снова возвратился в спальню.
— Вот, — сказал он, подавая донне Марселине конверт с письмом и перо, — напишите на этом конверте адрес.
— Зачем же я буду...
— Я вам говорю — пишите: «Сеньору Дугласу».
— Больше ничего?
— Больше ничего.
— Извольте, написала, — проговорила донна Марселина, надписав то, что ей было велено и возвращая перо.
— Хорошо. Теперь идите к сеньору Дугласу, отведите его в сторону, если он не один, и отдайте ему от моего имени это письмо.
— С удовольствием, сеньор, но...
— Спрячьте письмо хорошенько у себя на груди.
— Готово! Можете быть покойны, не пропадет.
— Вот еще что, донна Марселина...
— Что прикажете, дон Мигель?
— Завтра или послезавтра, от двенадцати до половины первого пополудни, я буду у вас в доме и желаю, чтобы у вас никого не было. Поняли?
— Сделайте одолжение, сеньор. Я в это время поведу своих племянниц гулять. Но как же быть с ключами?
— Ах, да! Я об этом и не подумал... Вот что: позовите сегодня слесаря и прикажите ему сделать двойные экземпляры ключей. Пусть он сделает их обязательно сегодня же, а завтра утром вы пришлите их мне... Я у вас буду вечером, часов в шесть; вы можете вести своих племянниц в церковь к вечерне. В темноте я меньше рискую быть узнанным кем-нибудь.
— О, у нас там очень мало движения, оживление только летом, когда купаются в реке перед нашим домом.
— Ну, положим, так, а осторожность все-таки не мешает. Прошу вас оставить все внутренние двери отворенными.
— Само-собой разумеется, сеньор.
— О моем пребывании у вас никто не должен знать; слышите, никто! Надеюсь, что вы сумеете сохранить молчание, донна Марселина. На всякий случай предупреждаю вас, что если вы сделаете что-нибудь, могущее причинить мне хоть малейшую неприятность, то вам не снести своей головы. Запомните это.
— Я это знаю; голова моя давно уже в ваших руках. Но я за нее нисколько не боюсь, сеньор дон Мигель. Я и без того охотно дам себя изрезать на куски не только за вас, но даже за самого последнего унитария.
— Тут дело идет не об унитариях, и вы напрасно причисляете меня к ним. Разве я когда-нибудь говорил вам, что принадлежу к этому опасному обществу?
— Нет, но...
— Без всяких «но»! Я не унитарий — вот и все!.. Хорошо ли вы запомнили все, что я вам сейчас говорил?
— Помилуйте, сеньор, с моей-то памятью! Еще не было примера, чтобы я когда-нибудь забыла, — сказала донна Марселина, видимо, смущенная серьезным тоном, с каким молодой человек отрицал свою принадлежность к унитариям.
— Ну, и прекрасно... Теперь до свидания... Впрочем, подождите еще минуту; я чуть было не забыл...
Дон Мигель опять пошел в кабинет, и вскоре возвратился оттуда с банковским билетом в пятьсот пиастров.
— Вот это вам на расходы по заказу ключей и на гостинцы для ваших племянниц, — небрежно произнес он, протягивая донне Марселине деньги.
— Вы самый великодушный сеньор во всем мире! — вскричала обрадованная старуха, пряча деньги в одно место с письмом. — Патер Гаэте и в месяц не передаст столько Гертруде, сколько вы сразу даете мне за пустую услугу!
— Вы только ему этого не говорите, донна Марселина, и вообще будьте поосторожнее. Главное, чтобы меня никто не застал у вас в доме. Я завтра сообщу вам, когда именно буду у вас.
— Можете положиться на меня, сеньор дон Мигель. Я ваша душой и телом.
Сделав глубокий реверанс, она удалилась, шумя па весь дом своими шелковыми юбками.
Глава XII
ДОН КАНДИДО
Едва только ушла донна Марселина, как Тонилло ввел к своему господину того самого старика с тростью, которого мы оставили у наружных дверей дома дона Мигеля.
Войдя мерным шагом в кабинет, где находился теперь дон Мигель, старик положил свою шляпу и трость на стул и, протягивая молодому человеку руку, сказал:
— Здравствуй, дорогой и уважаемый Мигель. Мне очень нужно было повидаться с тобой и только теперь и то с трудом удалось добраться до тебя... Однако, как бы то ни было, я, наконец, здесь и вижу тебя лицом к лицу... С твоего позволения я сяду.
— Садитесь, дорогой учитель, садитесь, — с приветливой улыбкой проговорил дон Мигель, пожав старику руку. — Зачем же вы приходили так рано? Ведь вы знаете, что я встаю поздно.
— Увы, да! Несмотря на то, что тебе много раз доставалось от меня за то, что ты постоянно опаздывал в класс.
— Наказывать-то вы меня усердно наказывали, дорогой Сеньор Кандидо, но писать порядочно все-таки не научили.
— Это меня и радует.
— Как так?
— Очень просто, мой мальчик. Я тридцать два года был учителем каллиграфии, и в течение долговременной практики убедился, что только одни тупицы выучиваются писать четко, ясно и красиво, дети же, одаренные способностями и живым воображением, при всех стараниях никогда не в состоянии освоить то, что называется хорошим почерком, все они пишут неровно, без нажимов и неясно.