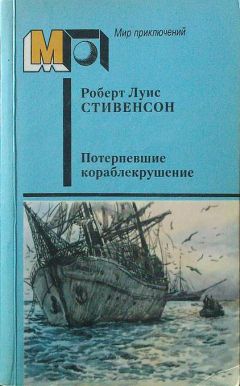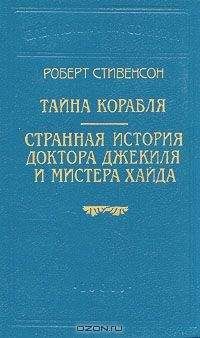Роберт Стивенсон - Тайна корабля
— Милый мой, — вскричал он, — я никогда не прощу себе, да и вы никогда не простите меня! Но, клянусь, вам, я действовал с добрым намерением! И как вы ловко выпутались! А я уж думал, что нам придется вернуть деньги.
— Это было бы честнее всего с нашей стороны.
За мной гнались представители печати с Гарри Миллером во главе. В общем это были славные люди, и в особенности Гарри Миллер, который выглядел истинным джентльменом. Мы уселись за устрицы и шампанское, потому что выручка от лекции была превосходная, и так как я был в очень приподнятом нервном настроении, то пир у нас вышел очень шумный. Никогда, кажется, в жизни, не был я так вдохновлен, как на этот раз, когда разглагольствовал о литературном стиле Гарри Миллера и о моих чувствах перед лицом моей аудитории. Мои собутыльники заявили мне, что считают меня душой доброй компании и настоящим царем лекторов. И если б вы прочли газетные отчеты о моей лекции, появившиеся на другой день, вы остались бы в убеждении, что я имел небывалый, выдающийся успех.
Я вернулся домой в прекраснейшем расположении духа, но бедный Пинкертон терзался вдвойне, за нас обоих.
— О, Лоудон, — говорил он, — я никогда не прощу себе! Право, если б вы отказались от лекции, то я, кажется, решился бы сам прочесть ее.
ГЛАВА VII
Железо в огне
Opes Strepidumque
Пища телесная не слишком различается для глупца и умного, для слона и воробья; одни и те же химические элементы, в разных формах, поддерживают смертных. Непродолжительное наблюдение над Пинкертоном в его новом положении убедило меня в аналогичной истине по отношению к другому, духовному пищеварению, посредством которого мы извлекаем из жизни, как говорится, «удовольствие за свои деньги». Как школьник, погрузившись в Майн Рида, орудует не стреляющим ружьем и бродит по воображаемым лесам, так Пинкертон ежедневно спешил по Кэрни-стрит к своим занятиям, разыгрывая в мыслях яркую роль на жизненной сцене и радуясь часами, если ему удавалось потереться около миллионера. Реальность была его романом; он гордился своими занятиями, с головой уходил в свое дело. Представьте себе человека, который откопал галион на Коромандельском берегу, и пока его валкая шхуна уходит в открытое море с неполной парусностью, он мерит ведрами золотые слитки на бурном взморье; такой человек, быть может получит гораздо большую материальную добычу, но не извлечет из своего дела больше романтического интереса, чем Пинкертон, когда он подводил еженедельный баланс в своей жалкой конторе. Каждый выигранный им доллар был подобен сокровищу, извлеченному на берег из таинственных недр; каждое предприятие уподоблялось нырку водолаза; и запуская свою смелую руку в гущу денежного рынка, он с наслаждением чувствовал, что потрясает основы существования, рассылает людей, с боевым криком работать в дальние страны и перетряхивает золото в сундуках миллионеров.
Я никогда не мог измерить всей глубины его спекуляций; но было пять отдельных дел, с которыми он носился, как со знаменем. «Водка Тринадцать Золотых звезд, высшего качества» (отвратительной очистки) занимала большое место в его мыслях и рекомендовать публике в красноречивом, но вводившем в заблуждение трактате «Зачем пить Французскую Водку? Слово Мудрому». Он держал контору для объявителей, дававшую советы и указания, принимавшую посредничество по печатанию и расклейке объявлений, для неопытных или не одаренных фантазией: тупой лавочник являлся к нему за идеями, бойкий театральный агент за сведениями относительно местных условий; и тот, и другой уходили с экземпляром брошюры «Как, Когда и Где» или «Спутник Объявителя». Он нанимал буксирное судно для рыбной ловли в субботу от полудня до вечера и снабжал желающих удочками и прикормом для шестичасовой ловли по пять долларов с персоны. Я слышал, что иные из них (несомненно искусные удильщики) оставались в барышах от такой сделки. При случае он покупал разбитые и предназначенные на слом суда; эти последние (не знаю, каким образом) снова выходили в море под другими названиями и продолжали торжественно рассекать волны под флагом Боливии или Никарагуа. Наконец, была какая-то сельскохозяйственная машина, блиставшая алой и голубой красками и восполнявшая (кажется) «давно ощущавшийся пробел», в которой он имел долю процентов в десять.
Все это фигурировало в качестве закономерного конца его предприятий. «За кулисами», по его выражению, он пускался в самые разнообразные и таинственные аферы. Ни один доллар не задерживался в его руках; напротив, они все куда-то исчезали моментально, как апельсины у фокусника. Мои получки — когда я вошел в долю — он только показывал мне на минуту и тотчас же пускал в оборот, как те мнимые подарки, которые показываются детям, чтобы немедленно исчезнуть в миссионерской кружке. Подведя баланс за неделю, он являлся сияющий, хлопал меня по плечу, сообщал о своих барышах цифры Гаргантюа и оказывался без гроша на выпивку.
— Да куда же вы их дели? — спрашивал я.
— Пустил в оборот, все снова помещено! — отвечал он.
«Помещение» было его любимым словом. Он терпеть не мог биржевой игры. «Никаких оборотов с акциями, Лоудон, — говорил он, — ничего, кроме законного дела». — А между тем, ей-Богу, иной закаленный биржевой игрок отшатнулся бы в ужасе при одном намеке на кое-какие из Пинкертоновских «помещений»! Одним из них, которое мне удалось проследить, и которое я привожу в качестве примера, была доля в седьмой части в найме некоей злополучной шхуны, отправлявшейся в Мексику с целью провезти контрабандой оружие в один конец и сигары в другой. Заключительная часть этого предприятия, связанная с кораблекрушением, конфискацией и судебным процессом со страховщиками, была слишком печальна, чтобы останавливаться на ней подробно. «Вышла неудача», — вот все, что сказал мне мой друг по этому поводу; но я заметил, что здание его успехов пошатнулось. Остальное я узнал только случайно, потому что Пинкертон с течением времени перестал посвящать меня в свои тайны: причину вы сейчас узнаете.
Контора, которая была (или должна была быть) местом успокоения этого потока долларов, находилась в центре города и представляла собой высокую и просторную комнату в несколько окон с зеркальными стеклами. Полированный шкаф красного дерева являл взорам армию бутылок, штук в двести, с яркими ярлыками. Все они были наполнены пинкертоновским «Тринадцать Звезд», хотя только эксперт мог бы отличить их через комнату от бутылок Курвуазье. Я обыкновенно упрекал моего друга этим сходством и предлагал новое издание брошюры с измененным заглавием: «Зачем Пить Французскую Водку, Когда Мы даем Вам те же Ярлыки?» Дверцы шкафа весь день вращались на своих петлях; и если являлся кто-нибудь, еще незнакомый с достоинствами напитка, то уходил, нагруженный бутылкой. Когда я протестовал против этой расточительности, Пинкертон восклицал: «Дорогой Лоудон, вы, по-видимому, не усвоили принципов дела! Ведь напиток буквально ничего не стоит. Я не найду более дешевой рекламы!» К боковой стенке шкафа прислонялся пестрый зонтик, сохраняемый, как реликвия. Когда Пинкертон готовился выпустить на рынок «Тринадцать Звезд», приближался сезон дождей. Он поджидал, в стесненных обстоятельствах, почти в нищете, первого ливня, а лишь только хлынул дождь, на всех перекрестках, точно по сигналу, появились его агенты, раздающие объявления, и все обитатели Сан-Франциско, от дельца, спешащего на перевоз, до дамы, поджидающей на углу вагона, укрылись под зонтиками со странной надписью: