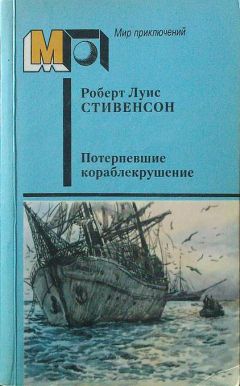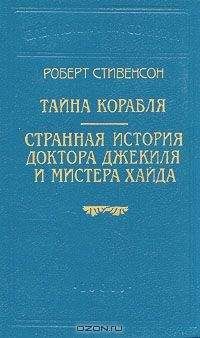Роберт Стивенсон - Тайна корабля
Уж не помню, что я собирался ответить ему, но он перебил меня.
— Дайте мне договорить! — крикнул он. — Я глубоко уважаю вас за то, что вы всю душу вкладываете в искусство; я не могу до этого подняться, но и во мне есть какая-то поэтическая струнка, Лоудон, которая отзывается на это чувство. И я хочу поддержать вас, помочь вам.
— Что это за нелепости, Пинкертон? — прервал я его.
— Погодите, Лоудон, не выходите из себя; это чисто деловое предложение, — сказал он. — Ведь как живут все эти ребята в Париже, — Гендерсон, Сомнер, Лонг?.. У всех одна и та же история. С одной стороны молодой человек, полный художественного гения, с другой — деловой человек, который не знает, куда девать свои доллары…
— Но, глупый вы человек, ведь вы бедны как церковная крыса! — закричал я.
— Дайте мне раскалить в огне мое железо! — возразил Пинкертон. — Я поклялся стать богачом. И я вам говорю, что я этого добьюсь. Вот ваша первая пенсия; возьмите ее из рук друга. Я из тех, кто считает дружбу вещью священной, и я знаю, что вы такой же. Тут всего сто франков. И такую же сумму вы будете получать каждый месяц; а как только мои дела улучшатся, мы повысим пенсию до надлежащих размеров. И не думайте, что это милость с моей стороны. Нет, я буду продавать ваши статуи в Америке, и буду это считать одним из самых лучших торговых дел в моей жизни.
Немало мне довелось потратить времени и немало мы оба испытали тяжелых волнений, пока я наконец решительно отказался от его предложения и мы покончили дело, потребовав бутылку вина. Он наконец бросил этот разговор, решительно выкрикнув: «Ну, ладно, пусть будет так!»
Остаток дня мы не расставались, но он уже не возвращался к этому предмету. Я провожал его до Сен-Лазарского вокзала. Я почувствовал угнетающее одиночество. Какой-то голос шептал мне, что я разом отринул и советы мудрости, и дружескую руку помощи. И в то время, как я возвращался к себе домой через блестящий город, я в первый раз смотрел на него сквозь призму невзгод.
ГЛАВА V
Я в затруднительных обстоятельствах в Париже
Нигде в мире голодание не бывает приятным занятием, но я думаю, что едва ли где в другом месте оно так тягостно, как в Париже. Здесь внешняя сторона жизни такая веселая, столько тут увеселительных садиков с выпивкой, дома так разукрашены, театры так многочисленны, экипажи так оживленно мчатся, что человек, у которого подавлен дух или страждет тело, волей-неволей углубляется в себя. Самому себе он кажется единственным серьезным существом, движущимся среди этого мирка, полного какой-то ужасной нереальности. Веселый народ, выходящий из кофеен, «хвосты» покупающих билеты у театров, праздничные экипажи, наполненные людьми, предпринявшими увеселительную поездку, разряженные женщины на панелях, роскошные выставки в окнах ювелиров — все эти обычные парижские зрелища как будто усиленно подчеркивают личное несчастье человека, его ожидания, его отчужденность. Но в то же время человек с моим складом характера находит в этом и свое ребяческое утешение. «Ведь это и есть жизнь, это именно и есть настоящая действительность, — говорит он себе. — Пузыри, которые держали меня на воде, лопнули, и теперь я очутился во власти океана; от моей ловкости зависит — погибнуть или спастись». И я на деле переживал теперь все, что с таким наслаждением читал когда-то о героях романов, — Лусто, Люсьене, Родольфе и Шонаре.
Не буду шаг за шагом прослеживать мое обнищание. Пришло время, когда мне пришлось прибегнуть к тому, что политично называется «займом» (хотя эти займы никогда не возвращаются), — вещь, состоящая в беспрестанной беготне от одного приятеля к другому, практикуемая иными по нескольку лет подряд. Но меня и тут преследовала неудача. Многие товарищи уехали, а другие и сами бились в нужде. Так, например, Ромнэй дошел до того, что странствовал по Парижу в деревянных башмаках, а костюм его пришел в такое плачевное состояние (назло искуснейшему применению к нему булавок), что служащие в Люксембургском музее намекали ему, что, мол, лучше бы ему уйти. Дижон тоже был на мели и кое-как перебивался расписыванием часовых циферблатов да ламповых подставок по заказу одного купца. Все, что он мог мне предоставить, — это угол в его мастерской, где я мог работать. Моя собственная мастерская была мною утрачена, и во время моего выдворения из нее Мускегонскому Гению пришлось распроститься со своим создателем. Для того, чтобы держать у себя такую статую во весь рост, надо обладать мастерской или галереей или хоть углом где-нибудь на задворках или в садике. Нельзя увезти ее с собой, как чемоданчик, положив ее в пролетку, нельзя также и жить в каморке длиной в пятнадцать и шириной в десять футов с таким объемистым компаньоном. Я сначала думал было оставить ее в мастерской; тут, в месте своего Рождения на свет, она, быть может, как мне думалось, могла бы вдохновлять моего преемника. Но домохозяин, с которым я, по несчастью, повздорил, рад был случаю сделать мне лишнюю неприятность и потребовал, чтобы я убрал свою недвижимость. Для меня при тогдашних моих финансах наем тележки для перевозки составлял крупную трату, да притом меня разбирал истерический смех при мысли о том, как я повезу по улицам Парижа моего Мускегонского Гения. Да и куда повез бы я его? Разве до ближайшей мусорной кучи, куда и пришлось бы мне свалить это излюбленное детище моей творческой мысли. В сей крайности я был рад-радехонек, когда нашелся покупатель, которому я и сбыл моего Гения за тридцать франков. Где-то он теперь красуется? Под каким наименованием выставлен на одобрение или порицание публики? Об этом история умалчивает. Мне хотелось бы, чтобы он украшал собой тенистые кущи какого-нибудь пригородного кабачка, где праздничные посетительницы вешают на мать свои шляпки, а кавалеры их из любезности называют младенца богом любви.
Мне удалось заполучить кредит в одной съестной лавочке, находившейся в черте внешних бульваров; я там обедал. Что же касается ужина, то я сказал, что обычно провожу вечера в домах у богатых знакомых. Такой распорядок моего дня был, кажется, принят с большим недоверием. С первого раза моим россказням еще, пожалуй, и можно бы было поверить, покуда моя одежонка была в сносном состоянии, но потом мой сюртучок начал ярко лосниться, а затем и обтрепываться по краям, а сапоги — чавкать при ходьбе. Притом одноразовое питание хотя и чудесно соответствовало состоянию моих финансов, вовсе не удовлетворяло моего чрева. Рестораны такого рода я часто посещал еще в то время, когда, ради опыта, желал испробовать жизнь, какую вели студенты беднее меня. И никогда я не мог в них войти без отвращения и выйти из них без тошноты. И вот теперь я дивился на самого себя, как это я ем в таком месте с такой алчностью, встаю из-за стола очень довольный собой и считаю часы, отделяющие меня от нового заседания за этим столом. Но голод — великий маг и волшебник. Как только моя кассовая наличность иссякла, и я не мог заморить червяка чашкой шоколада или добрым ломтем хлеба, я очутился в полной зависимости от этой извозчичьей съестной и кроме нее мог рассчитывать только на редкие, долго и томительно ожидаемые и долго потом вспоминаемые счастливые случайности. Так, иной раз Дижон заполучал мзду за свою мазню, иной раз какой-нибудь старый приятель проездом являлся в Париж. Тут мне удавалось пообедать, как душа требовала, да еще и устроить заем на началах, принятых в Латинском квартале, заем, который обеспечивал меня табаком и утренним кофе недели на две; последнее было, конечно, много существеннее первого. Можно бы подумать, что такая жизнь, протекающая в самом близком соседстве с границей голода, должна была бы притупить остроту чувств моего неба. Ничуть не бывало. Чем скуднее у человека диета, тем больше изощряется вкус к лакомому куску. Остаток моей кассовой наличности, что-то около тридцати франков, был мною добросовестно проеден на одном обеде, а все мое свободное время, когда я был один, расходовалось на изобретение подробностей разных пиршеств, о которых я мечтал.