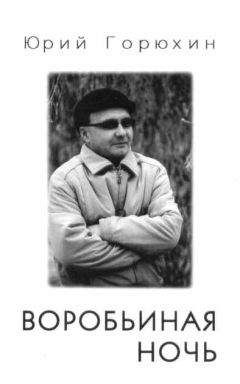Владимир Туболев - Воробьиная ночь
— Не понял.
— И не надо. Вам приходилось убивать?
Аслан с минуту молчит.
— Приходилось, — неохотно говорит наконец. Он колеблется. — Когда аул Джафара был уничтожен ракетным огнем, мы заметили номер вертолета. Потом его захватили.
— Кто такой Джафар?
Аслан указывает большим пальцем поднятой левой руки за плечо, в сторону фюзеляжа.
— С усиками. Мой друг. Отец, мать, две сестры, жена, трое ребятишек — все погибли.
— Он стрелял в штурмана?
— Я.
Не мог ты этого сделать. Слишком мало было времени. В кабину ты ворвался первым. Что ж, благородно.
Как они пронесли оружие на самолет? Или — оно уже здесь находилось, припрятанное в ящиках?
Много вопросов, на которые его обязательный собеседник ответить явно не пожелает. Ладно, не будем их и задавать. Тем более что к стоящей перед тобой задаче они никакого отношения не имеют.
— Неважно кто…
— Неважно. Идрис его младший брат. Только они двое и остались…
— Вы уверены, что второй пилот и бортмеханик в безопасности?
— Уверен. Кровная месть — не всеобщее уничтожение. К тому же у вас ее значение сильно преувеличивают. Наша цель — свобода. Это выше мести.
Да будь вы все неладны! Все поют одну и ту же песню испокон веков. Сколько можно верить сказочкам?! Свобода! Да что такое свобода? Свобода — лгать, воровать, грабить, мучить, унижать и убивать. Не было и нет свободы просто мирно жить. И не будет. Пряников на всех никогда не хватает.
Вот она, ваша свобода, — лежит на полу за кабинной переборкой.
Но если я не последний осел, то второй пилот давал мне понять, что связанные руки у него свободны. С его способностями это возможно. Неужто отец с мамой такому пустяку его не обучили? И вот эта-то свобода — нечто ощутимое и реальное. Если так, то наши шансы повышаются. Но что это ему дает?
Пока — ничего. Против пули даже свободные руки слабоваты.
Не профукай только все так же бездарно, как один раз уже сделал.
Что ты можешь?
Бросить самолет в пике, после чего твой соседушка распластается на потолке, как муха. Приятная картинка. Вот только потом машину надо будет из него вывести, а это вряд ли окажется тебе по плечу с мешком… этого самого, когда оно отлипнет от потолка и повиснет на штурвале.
Свалить самолет на крыло или заложить такой вираж, чтоб глаза у всех на лоб полезли?
Это можно. Если крылья выдержат.
Из всех — реальный шанс: болтанка.
Вот эту-то возможность он и рассматривает со всех сторон бесконечно. Ему нужен не одноразовый трюк, при котором что-то то ли будет, то ли нет. Ему нужно действовать наверняка. А болтанки им не избежать.
13
Раздрай, случившийся с бортмехаником Михаилом Бурлаковым в результате всех этих несуразностей, начинает помаленьку образовываться и утрясаться. Михаил оглядывает самолет, второго пилота, своих пленителей-сторожей-охранителей пусть все еще и довольно диким, но постепенно проясняющимся взглядом. Калейдоскоп последних невозможных и необъяснимых событий начинает стабилизироваться в его голове и обретать хоть какой-то смысл.
— Это… что? Выходит… они нас захватили? — задает он Геннадию кристальный по своему логическому обоснованию вопрос.
Глаза у него голубенькие, как незабудки, и смотрят доверчиво. Он глядит на второго пилота. Он передергивает кистями рук, пытаясь ослабить стягивающую их бельевую веревку. Веревка жмет, но главное — вызывает страшное раздражение своей инородностью, своей несовместимостью с тем, что он привык и должен делать и что происходит в эту минуту.
— В способности делать правильные выводы из немногих фактов тебе не откажешь, — одобряет Гена.
— Но — зачем?
— Вопрос вопросов. Как «быть или не быть» Шекспира.
— Я его знаю? — сбивается с мысли Михаил.
— Вряд ли.
Михаил морщит лоб, припоминает.
— Это тот тип, который тысячу лет назад писал всякую заумь? — Интеллект бортмеханика не относящимися к практическим делам сведениями явно не обременен. — Чего ты мне его суешь? Он что — нам поможет?
— Не поможет, — соглашается Минин.
— Ну и нечего тогда приплетать всяких там… Зачем они убили штурмана?
— Спроси у них.
Механик поворачивается к Джафару.
— Зачем вы убили штурмана?
Тот молча косится на него и отворачивается.
— Вот это гадство! — изумляется Михаил одновременно тому, что штурмана убили, и тому, что на простой вопрос ответить не могут. И хоть сам он сидит связанным, до него все еще никак не доходит, что все это всерьез и его самого тоже касается. — А нас зачем связали?
И вдруг его поражает: как это он, такой здоровущий, позволил себя связать? Да он здесь все мог разнести в щепки, а он и пальцем не шевельнул. У него даже рот открывается, когда он постигает всю эту несообразность. Он с недоверием поворачивает голову, пытаясь заглянуть себе за спину.
— Во блин! — говорит он.
— Эх, Миша, Миша! — говорит второй пилот.
— Что «Миша, Миша»? — пыхтит тот: заглянуть за спину не удается, и он бросает эти попытки. — А как полетит самолет без штурмана, бортмеханика и тебя? Они соображают это или совсем опупели?
— Летит.
— И долго пролетит? — с ехидцей спрашивает он. — Это вам что — телега с лошадью? Шуточки нашли!
— Мой грех, мой грех, — удрученно согласился Гена. — Недоглядел.
— Что ты мне смешки все строишь?! — сердится Михаил. — Дело-то серьезное!
— Еще бы. Только я тут при чем, а, Миша?
— Ты тут ни при чем, — вынужден тот согласиться. — И все-таки это никуда не годится! Надо что-то делать.
— Ты попал в самую точку.
— Но что?
— Не знаю.
— Командир молчит, второй — не знает, эти два дундука воды в рот набрали, я тут пеньком торчу. А самолет, того и гляди, хлопнется. Я даже не знаю, сколько из каких групп керосина выработано. Вот так хорошенькое дело!
— Миша, какой, к дьяволу, керосин?! Ты хоть понимаешь, что говоришь?
— Понимаю. На этой машине из правой группы баков выработка идет всегда быстрее, я это давно заметил… И еще…
— Миша, — болезненно морщится второй пилот, — прежде чем дело дойдет до керосина, нас эти два добрых молодца трижды пристрелят.
— Ну да? — говорит Миша недоверчиво.
— Да.
— И кто поведет машину? Господь Бог? А кто ее сажать будет?
— Миша, вон туда взгляни, — кивает Гена на пол, где лежит тело штурмана.
Тот смотрит.
— Вот это… — тянет он.
— …гадство, — подсказывает ему Гена. — Самое настоящее, Миша. Первостатейное.
Их стражи в разговор не вмешиваются. Они сидят по обе стороны от пленников и смотрят перед собой отсутствующими взглядами. Может, получили такое указание, а может, разговор их действительно не интересует. Дело, в которое он ввязались, дает им немало пищи для собственных размышлений.