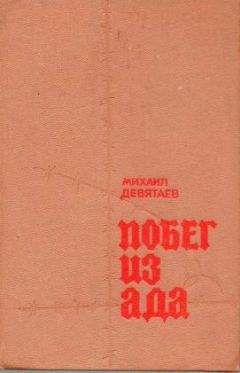Василий Ардаматский - Ленинградская зима
– Для Германии эта война с нами – безнадежное бедствие… Они не учли главного: победить нас могут, только уничтожив подчистую все население, а это им не под силу. Никому такое не под силу – государство уничтожить нельзя, даже самое маленькое. Они и до нас уже напобеждались: Польша, Франция и так далее. И каждая эта страна для Германии как начало раковой опухоли, причем опухоль эта и политическая, и экономическая, и моральная, и, конечно, военная…
Темная изба, на полатях лежит капитан, мелькает огонек папиросы. Слышу ровный, спокойный голос Соломенникова:
– Гибельно и попросту глупо оценивать ход войны по сданным городам. Я стараюсь даже командирам рот прививать умение и желание видеть не только то, что у него под носом, а самую дальнюю перспективу войны… И вам советую. Вы иронизировали насчет бравых выписок из боевых донесений. Зря. В этих доблестных поступках наших солдат – главный страх Германии и главная черта войны, которую мы сегодня ведем…
Русский характер – вот еще проблема для немцев. Немец прибывает к нам из-под своей черепичной крыши и от сортира, отделанного белым кафелем, смотрит на наши крестьянские избы под соломой или сидит на корточках в огороде и никак не может понять: почему живущий в адских избах русский мужик идет на смерть, защищая эти самые избы? Немцы проиграют войну, но они так и не поймут, в чем тут дело… Хотел бы вам посоветовать: пишите в свое радио правду, только то, что происходит на самом деле, и вы никогда не ошибетесь. Сегодня мы отступаем – это правда. Не бойтесь ее. Противник наступает, но несет значительные потери… А конец еще далеко-далеко…
Может, другие понимают все без встречи с вами, дорогой капитан Соломенников, а мне эта встреча была необходима до крайности.
Я, видать, еще мало и мелко думал о войне. Как-то недавно Светлов шутил, что редакция требует от него «подвальную корреспонденцию», но чем он может заполнить целый газетный подвал, если он сам, сидя в подвале бомбоубежища, про эту великую войну точно знает только одно, что там убивают… Сегодня он вернулся с фронта. «Чем дальше туда, чем ближе к бойцу, тем спокойнее на душе, и, очевидно, чтобы обрести полный покой, просто надо самому стать солдатом. Правда, там часто убивают, но, ей-богу, лучше быть убитым, чем жить в неведении трясущимся неврастеником», – сказал он, и, как всегда, было непонятно, смеется он или всерьез.
Светлов прав. Не встретился ли и ему на фронте свой капитан Соломенников?
Глава седьмая
Уже несколько дней Потапов жил на «собственной» даче под именем Дмитрия Трофимовича Турганова. Рыжеватая бородка сделала его лицо совершенно другим. В сером, порядком заношенном пиджаке и мятых брюках, заправленных в сапоги, он был похож на интеллигентного человека, пришибленного жизнью, – ходил, опустив голову, сутуля плечи, исподлобья смотрел себе под ноги через толстые очки в металлической оправе. Несколько раз за день Потапов выходил на угол главной улицы и смотрел, как двигались войска и с ними – беженцы.
Фронт приближался. По ночам небо на западе шевелили багровые отсветы и слышался невнятный, отдаленный гром. Через Гатчину все гуще шли наши отступавшие войска. Городок быстро пустел, постоянные жители перебирались в Ленинград.
Нужно было решать, что делать. Потапов уже давно разыскал дом, в котором жила дочь исчезнувшего из Ленинграда Бруно. Это было совсем недалеко от дачи, «купленной» Потаповым, чуть ближе к Охотничьему замку. Соседка сказала, что старый Бруно уже давно приезжал за дочкой и увез ее, говорил – в Ленинград. Вход в дом заколочен, но окна только прикрыты ставнями. Потапов открыл ставню и заглянул через окно – мебель стояла в полном порядке, на полу лежала дорожка, пианино не было закрыто чехлом. Похоже, что хозяева собирались скоро вернуться…
Давыдченко явно ждал немцев. Ему принадлежала половина небольшой дачи возле церкви, в самом центре городка. Владельцы другой половины уехали в Ленинград, и Давыдченко решил расположиться во всем доме – он расколотил наглухо забитую дверь, сломал перегородку и часть своих вещей перетащил на чужую половину. Он вел какую-то суетливую, нервную жизнь: то хлопотал с топором на участке, то с озабоченным видом убегал зачем-то в город.
Потапов позвонил в Ленинград и доложил о положении дела. В отношении Бруно приказ был сложный: ждать до последней возможности и, если Бруно появится и откажется вернуться в Ленинград, оставаться вблизи него. Давыдченко надо было заставить своевременно уехать в Ленинград.
Но как определить ту самую последнюю возможность, до которой ему надо ждать появления Бруно? Гром войны совсем близко, на веранде беспрерывно звенят стекла. Дождь то начинался, шумя по железной крыше, то затихал. А сейчас шел ровно, споро, с монотонным шумом…
Глубокая ночь. Каждый час, каждую минуту в Гатчину могут ворваться немцы. Потапов недавно вернулся с дачи Бруно – там все по-прежнему. Надо было спать, но он не мог себя заставить.
Всего несколько дней миновало, как он уехал из Ленинграда, но кажется, что с тех пор прошла целая вечность. Только сегодня он разговаривал по телефону с Грушко, но сейчас, ночью, разговор этот уже казался нереальным… Литейный… Большой дом… Паша Грушко… Оля с Вовкой.
Даже проститься с семьей толком не мог. Ночью вырвался домой на несколько часов. Пока дошел – он жил возле Балтийского вокзала, – уже стало светать.
Дома не спали, недавно позвонили из хозяйственною отдела и предупредили, что грузовик заедет за ними в десять утра.
Когда Потапов вошел в комнату, Ольга даже не повернулась. Она понуро сидела на чемодане посредине комнаты, бессильно опустив сцепленные руки. Теща, Нина Ивановна, с книжкой сидела на своем любимом месте в углу, у настольной лампы.
Потапов сел рядом с Ольгой на чемодан и обнял ее за плечи.
– Оля, от нас с тобой ничего не зависит, – сказал он.
Ольга подняла голову, и он увидел ее похудевшее и постаревшее лицо.
– Воловы вон не бегут, – сказала сухим голосом Нина Ивановна.
Воловы – их соседи по коммунальной квартире – большая рабочая семья.
– Мы тоже не бежим, Нина Ивановна, – как только мог спокойно ответил Потапов. – А придет срок, Воловых тоже эвакуируют, это придумано не для нас одних.
– Лично я не поеду на ваш Урал.
– Значит, вы не любите свою дочь, своего внука, – устало сказал Потапов и спросил: – Все уложили, Оля?
– Не знаю… ничего не знаю… кошмар какой-то… – еле слышно сказала Ольга.
– Он один только все знает и все понимает, – язвительно сказала теща.
Потапов молчал. Что он мог сказать жене и ее матери, кроме того, что не уехать они попросту не имеют права. И уедут. Завтра, нет, уже сегодня, скоро, в десять утра. Он не может сказать им ничего другого… «Надо поговорить с Олей сейчас же, сию минуту…» – подумал он. Они уже давно виделись только урывками, ночью да ранним утром, когда он уходил из дому. И сейчас, очень скоро, он уйдет…