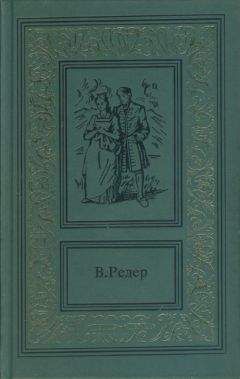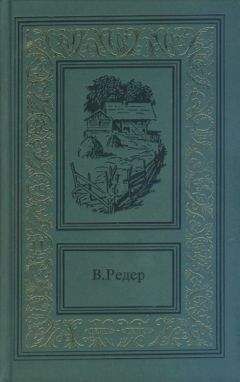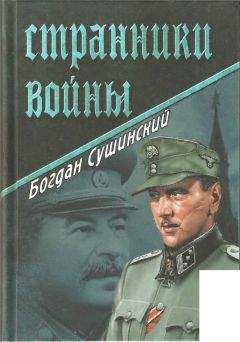В. Редер - Пещера Лейхтвейса. Том третий
Лора и Лейхтвейс при других обстоятельствах не согласились бы убить милых певцов. На родине эти птички были добрыми товарищами для разбойника и всего его общества. Они оживляли уединенный Нероберг и своим пением доставляли столько удовольствия и утешения разбойникам. Но нужда не свой брат, и голод не тетка. Сначала поднялся осторожно Лейхтвейс, не производя ни малейшего шороха и держа наготове широкополую шляпу. По его знаку то же сделали и другие. Птицы, сидевшие теперь не только на перилах, но покрывавшие сплошь весь плот, были так утомлены и слабы, что не были в силах шевельнуться даже при виде врага. По знаку Лейхтвейса началась охота. Разбойники убивали шляпами и канатом бедных маленьких птиц, и хотя множество их улетело, но все же охота дала богатые результаты. Оказалось убитыми восемьдесят жаворонков и ласточек.
— Бедные пичужки, — жалела их Лора, — они не ожидали, что на море их постигнет такая печальная участь. Мы, право, нехорошо поступили, что нарушили гостеприимство, которого у нас искали эти маленькие создания.
— Милая Лора, — заговорил Лейхтвейс, чувствуя как бы желание оправдаться, — эти птички были так утомлены, что если бы мы их не убили, они, вероятно, скоро сами попадали бы в море и погибли бы в нем. Тогда они сделались бы добычей рыб, а не достались бы нам, так сильно нуждающимся в пище. Нет, Лора, этих птиц нам послал сам Бог, видяший нашу нужду и сжалившийся над нами.
Тем временем остальное общество занялось приготовлением жаркого: птицы были ощипаны, выпотрошены, надеты на длинный гвоздь, воткнутый в рукоятку весла. На корме зажгли веселый костер и принялись жарить дичь. Через несколько минут вкусное жаркое было готово. После такого долгого поста потерпевшие крушение испытали, наконец, ощущение сытости. Это продолжалось несколько дней, а затем снова вернулся голод, и желудок должен был снова привыкать обходиться без пищи.
Плот блуждал по океану уже двадцать четыре дня. Двадцать четыре дня страданий и лишений. На двадцать восьмой день Матиас Лоренсен, неотступно всматривавшийся в море, вдруг громко крикнул:
— Вижу корабль!
Известие о появлении вдали корабля произвело, конечно, сильное впечатление на пловцов: они рассчитывали на это с самого начала плавания, и, наконец-то, надежда их начала сбываться. Все взгляды устремились на горизонт. Факт был несомненен. Они видели корабль, но весь вопрос был в том: увидит ли он их.
— Это бриг, — пояснил старый лоцман, — он летит на всех парусах.
— Если он продержит этот курс в продолжение двух часов, то пройдет мимо нас.
Два часа… целая вечность! Судно может каждую минуту изменить курс, и это, вероятно, так и будет, потому что оно, очевидно, лавирует, чтобы встать под ветер. О, если оно только пойдет по ветру, то надежда пловцов оправдается!
Теперь нужно было принять меры, чтобы с корабля могли заметить плот. Лоцман, который взял на себя все распоряжения, придумывал, каким бы способом подать сигнал. К сожалению, пассажиры плота не имели никакого огнестрельного оружия, чтобы выстрелами обратить на себя внимание большого парусного судна. Решили воспользоваться красным платком, снятым с шеи Елизаветы, цвет которого резко отличался от цвета воды. Его привязали к верхушке мачты. От легкого ветерка, как раз подувшего в эту минуту, он развернулся и затрепетал в воздухе. Это наполнило сердце Лейхтвейса радостной надеждой. Этот флаг был последней соломинкой, за которую они цеплялись.
Боже мой, как медленно ползло судно! Оно шло на всех парусах, и все-таки до сих пор его остов едва виднелся на горизонте. По наблюдениям лоцмана, к девяти часам судно находилось еще на расстоянии девяти миль.
— Оно поворачивает! — воскликнул Готлиб.
Эти слова как громом поразили пассажиров плота. Одни стояли как окаменелые, другие падали на колени с горячей молитвой. Лоцман разразился страшным проклятием. На расстоянии девяти миль судно не могло увидеть их сигналов. На безграничной водной поверхности плот представлял такую крохотную точку, которая совершенно пропадала в ослепительных лучах знойного солнца, и судно не заметило его.
— Зажгите огонь, пустите дым, — заговорил Лейхтвейс, — снимите доску с плота и зажгите костер, друзья, это единственное средство обратить на нас внимание.
С носа были сняты доски и распилены на куски. Не без труда удалось зажечь их, так как они были мокры. Но вследствие этого от костра поднималось больше дыма, который, поднявшись высоко к небу, мог быть виден издалека. Время, однако, проходило, и костер стал потухать. Судно между тем повернуло на восток, и через три часа самый острый глаз опытного моряка не мог бы разглядеть никакого следа паруса на горизонте. Последняя надежда несчастных исчезла.
Они были снова одни, совершенно одни в безбрежном океане. Печально прилегли они на плоту, безропотно предав себя воле Божьей. Никто из них уже не надеялся избежать смерти. Ночью с двадцать восьмого на двадцать девятый день несчастные, предававшиеся тревожному, лихорадочному сну, были вдруг разбужены песнями и веселым смехом. Они пробудились ото сна. Утро едва брезжило на безграничном море.
Вдруг они увидели Готлиба, сына лоцмана, весело прыгающего и танцующего с поднятыми руками. Он с хохотом выкрикивал: «Спасены, спасены!.. Вон там земля… на ней прекрасный зеленый лужок и на нем пастух пасет стадо овец… Слышите звон бубенчиков… динь-динь… Теперь конец нашему горю… Теперь мы спасены…» Присутствующие с немым удивлением оглянулись кругом: ни земли, ни луга, ни овец, ни пастуха… Ничего, кроме седых волн и, как всегда, безоблачного горизонта, не было видно. Готлиб сошел с ума. Мучения, причиняемые голодом, лишили его разума.
— О мой несчастный сын! — рыдал Матиас Лоренсен с отчаянием, закрывая лицо руками. — Он сделался первой жертвой…
— Слышите же, вы, там!.. — кричал Готлиб, уставившись вдаль сверкавшими безумием глазами.
Лицо его, бледное как смерть, исказилось страшным хохотом.
— А! Вы не слушаетесь… Так наши пушки заставят вас прийти нам на помощь. Вот возьмите… возьмите… это первый выстрел.
Неожиданно, прежде чем кто-либо мог удержать его, несчастный схватил бочонок с остатками пресной воды и швырнул его далеко в море. Крик ужаса вырвался у всех.
— Бочонок, бочонок! — ревел в отчаянии Зигрист. — Наша последняя надежда… Теперь мы погибли окончательно…
— Нет, этого не будет! — крикнул Матиас Лоренсен. — Вы не погибнете по вине моего сына… Я достану бочонок, ручаюсь в этом своей жизнью.
С быстротой молнии он вскочил на перила, сбросил платье и, прежде чем кинувшиеся к нему Зигрист и Лейхтвейс успели схватить его, он бросился в море вниз головой. Бочонок плыл не очень далеко от плота. Еще можно было надеяться, что лоцман, будучи отличным пловцом, догонит его и вернется с ним обратно. Затаив дыхание, смотрели все, как он, несмотря на пожилой возраст и долгие лишения, плыл, разрезая волны сильными, крепкими руками. На расстоянии не больше английской мили он догнал бочонок и, ухватившись за него, с радостным криком погнал его перед собой, возвращаясь к плоту. Лейхтвейс взял руку Лоры, стоявшей рядом с ним, и, подняв глаза к небу, произнес, глубоко взволнованный: