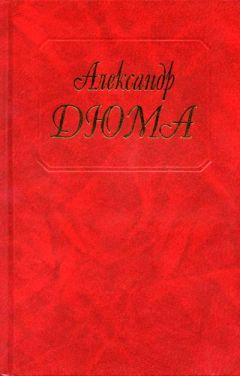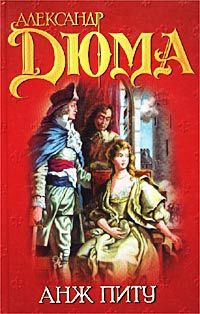Александр Дюма - Анж Питу
Вдоволь наплакавшись, напевшись и набродившись, Питу возвратился домой и обнаружил у своих дверей часового, которого выставили восхищенные жители Арамона из почтения к командующему Национальной гвардией.
Часовой был так пьян, что не мог удержать оружие в руках; он спал, сидя на камне и зажав ружье между колен.
Удивленный Питу разбудил его.
Часовой рассказал, что три десятка воинов отправились к папаше Телье, арамонскому Вателю, и закатили пир, что триумфаторов чествует дюжина самых разбитных красоток и что гвардейцы берегут почетное место для своего Тюренна, победившего соседского Конде.
У Питу было слишком тяжело на душе, чтобы муки эти не затронули и желудка. «Все удивляются, – говорит Шатобриан, – количеству слез, которые способны пролиться из глаз короля, но никто не вспоминает об опустошениях, которые оставляют рыдания в желудке простого смертного».
Часовой препроводил Питу к пирующим, и те встретили своего вождя приветственными возгласами, от которых задрожали стены.
Он молча кивнул, так же молча сел и со своей обычной невозмутимостью принялся за телятину и салат.
И пока желудок его наполнялся, сердце потихоньку оттаивало.
Глава 70.
НЕОЖИДАННАЯ РАЗВЯЗКА
Если ты приходишь на пир в слезах, то можешь либо разрыдаться еще сильнее, либо совершенно утешиться.
Два часа спустя Питу заметил, что хуже ему не стало.
Когда все его сотрапезники утратили способность держаться на ногах, он поднялся.
Перед мертвецки пьяными гвардейцами он произнес речь о воздержанности спартанцев.
Он сказал им, что неплохо было бы пройтись, когда все они уже храпели, свалившись под стол.
Что же до юных арамонских красавиц, то, к их чести, мы должны признаться, что они покинули собрание до десерта, не позволив своим умам, ногам и сердцам сказать решающее слово.
Питу, храбрейший из храбрейших, и на пиру продолжал размышлять.
За этот вечер перед ним промелькнуло много влюбленных, очаровательных, роскошных красавиц, но в душе его и в памяти запечатлелись только последние взгляды и последние слова Катрин.
В полудреме он вспоминал, как рука Катрин несколько раз коснулась его руки, как Катрин небрежно задела своим плечом его плечо, как даже в споре она держалась столь пленительно, что лишний раз убедила Питу в своей неотразимости.
Тогда, захмелев в свой черед от воспоминаний о том, чем он хладнокровно пренебрег несколькими часами раньше, он тряхнул головой, словно очнувшись от долгого сна.
Он спросил у окружающей его ночи, отчего он так сурово обошелся с этой молодой женщиной? Ведь она – сама любовь, сама нежность, само обаяние. Да, на заре жизни она погналась за несбыточной мечтой, но с кем этого не случается?
Питу задавался и другим вопросом: с какой стати самой красивой девушке в округе любить его – медведя, урода, бедняка, когда подле нее распускает хвост красивый и знатный господин, главный местный павлин.
Затем Питу утешал себя тем, что у него, Питу, есть свои достоинства и сравнивал себя с фиалкой, которая испускает сладостный аромат, неслышная и невидимая миру.
Поскольку иного способа испускать аромат не существует, он, несомненно, был абсолютна прав; впрочем, основным источником этой правоты было арамонское вино, что лишний раз подтверждает старинную мудрость, гласящую, что истина – в вине.
Итак, вдохновленный философией на борьбу со своими дурными наклонностями, Питу признал, что вел себя с девушкой скверно, если не преступно.
Он сказал себе, что таким поведением мог вызвать к себе одну лишь ненависть, что расчеты его были из рук вон плохи, что если Питу и впредь будет проявлять свою строптивость, Катрин, ослепленная прелестями г-на де Шарни, воспользуется этим предлогом, чтобы оставить без внимания блестящие и основательные дарования Питу.
Следовательно, необходимо было уверить Катрин в своей кротости.
Каким же образом?
Ловелас рассудил бы так: эта девушка изменяет мне и водит меня за нос; я обману ее и посмеюсь над нею.
Ловелас сказал бы: я оболью ее презрением, и пусть ей станет стыдно за ее распутство. Я внушу ей страх, я опозорю ее, я отобью у нее охоту бегать на свидания.
Питу, добрая душа, разгоряченный триумфом и белым вином, поклялся себе, что заставит Катрин раскаяться в равнодушии к такому молодцу, как он.
Добавим, что в своем целомудрии Питу и помыслить не мог, чтобы прекрасная, скромная, гордая Катрин всерьез увлеклась г-ном Изидором; он был уверен, что она просто кокетничает с этим красавцем, пленившим ее кружевными жабо, лосинами и сапогами со шпорами.
А разве мог захмелевший Питу ревновать к жабо и шпорам?
В один прекрасный день г-н Изидор уедет в город, женится на какой-нибудь графине, забудет о Катрин – и конец роману.
Вино, возвращающее молодость старцам, внушило отважному командиру арамонской Национальной гвардии эти стариковские мысли.
Меж тем покамест нужно было уверить Катрин в своей кротости, а для этого Питу решил взять назад все злые слова, что успел наговорить девушке.
Раз так, следует вновь увидеться с Катрин.
Для человека хмельного и не имеющего часов времени не существует.
Часов у Питу не было, а пройдя от силы десять шагов, он стал пьян, как сам Вакх или его возлюбленный сын Феспис.
Он напрочь забыл, что расстался с Катрин в три часа, а дорога до Писле отняла у нее час, не больше.
Надеясь догнать ее, он, не разбирая пути, ринулся напролом через лес по направлению к Писле.
Пока он воюет с деревьями и кустами герцога Орлеанского, вернемся к Катрин.
Грустная и задумчивая, она ехала домой следом за матерью.
Возле самой фермы дорога пересекает болото и сильно сужается; лошади могут пройти по ней только одна за другой.
Матушка Бийо поехала первой.
Катрин хотела последовать за ней, когда услышала призывный свист.
Обернувшись, она разглядела среди листвы фуражку с галуном, принадлежащую лакею Изидора.
Она крикнула матери, что скоро догонит ее, и мать спокойно поехала вперед – ведь до фермы было рукой подать.
Лакей подошел к Катрин.
– Мадмуазель, – сказал он, – господину Изидору срочно необходимо поговорить с вами; он просил назначить место, где он мог бы увидеть вас сегодня в одиннадцать вечера.
– Боже мой, – воскликнула Катрин, – что случилось?
– Не знаю, мадмуазель; я знаю только, что он получил из Парижа письмо с траурной печатью; я уже целый час дожидаюсь вас здесь.
На колокольне в Виллер-Котре только что пробило десять; звон кимвала медленно замирал в воздухе, и вместе с ним один за другим улетали вдаль часы.
Катрин огляделась кругом.
– Ну что ж, здесь темно и покойно, – сказала она, – я буду ждать вашего хозяина здесь. Лакей вскочил на лошадь и ускакал. Встревоженная Катрин возвратилась на ферму. Что мог сообщить ей Изидор в такой поздний час, кроме дурной вести?
Любовные свидания обставляются иначе.
Но какое все это имело значение? Главное, что Изидор хочет ее видеть, – к нему она не побоялась бы прийти и в полночь на кладбище.
Поэтому, ни минуты не поколебавшись, она пожелала матери спокойной ночи и поднялась к себе.
Мать, ничего не заподозрив, разделась и легла.
Впрочем, если бы даже бедная женщина что-то и заподозрила, это бы ничего не изменило. Ведь Катрин была на ферме законной хозяйкой!
Хозяйка же эта, войдя в свою комнату, не разделась и не легла.
Она ждала.
Часы на колокольне пробили половину одиннадцатого, затем без четверти одиннадцать.
Тогда она погасила лампу и спустилась в столовую.
Окна столовой выходили прямо на дорогу: девушка открыла одно из них и проворно спрыгнула на землю.
Окно она оставила открытым, чтобы таким же путем вернуться назад, и только притворила ставни.
Она быстро добежала до назначенного места и, прижав одну руку к пылающему лбу, а другую – к колотящемуся сердцу, тщетно пытаясь унять дрожь в ногах, принялась ждать.
Впрочем, ждать ей пришлось недолго. Вскоре из лесу донесся стук копыт.
Она сделала шаг вперед и увидела Изидора. Лакей держался поодаль.
Изидор, не спешиваясь, протянул Катрин руку, помог ей взобраться на круп своего коня, обнял ее и сказал:
– Катрин, вчера в Версале убили моего брата Жоржа; брат Оливье призывает меня к себе, я уезжаю, Катрин. Горестно всхлипнув, Катрин сжала виконта в объятиях.
– О! – застонала она, – если они убили вашего брата Жоржа, они убьют и вас.
– Катрин, что бы ни было, мой старший брат ждет меня. Вы ведь знаете, Катрин, как я люблю вас.
– О, останьтесь, останьтесь, – взмолилась Катрин, которая из всех слов Изидора поняла только одно: он уезжает.
– Но это мой долг, Катрин! Я обязан отомстить! Отомстить за брата Жоржа!
– О горе мне! – вскрикнула Катрин и, дрожа всем телом, не помня себя, припала к груди Изидора.
Слеза выкатилась из глаз виконта и капнула на шею девушке.
– О, – сказала она, – вы плачете, значит, вы меня любите.