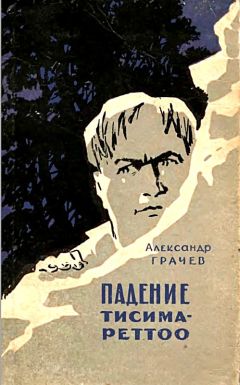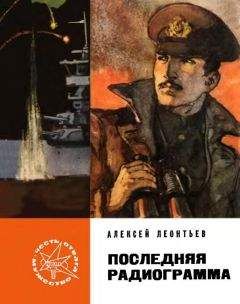Остин Райт - Островитяния. Том первый
Но, конечно, грозных врагов там не было.
И все же, когда мы завтракали, я не спускал глаз с безлюдного склона.
Наттана сказала, что как-то, несколько месяцев назад, ей пришло в голову, что она заленилась и неплохо бы придумать себе какое-нибудь постоянное занятие. Она решила употребить свои способности к ткачеству и теперь, пока я у них гощу, половину времени будет проводить за работой.
Весь следующий день ливнем лил дождь, и Наттана работала. Не зайти к ней и не поговорить казалось невежливо, но и просидеть весь день, ничего не делая, за одними разговорами тоже было неловко. Я оставил Наттану и засел за письма домой, впрочем постоянно отрываясь: то тщетно ломая голову, что бы такое — одновременно нейтральное и прочувствованное — сказать Дорне, то бродя по дому, то пытаясь читать.
Наттана появилась к завтраку. Взгляд у нее был отсутствующий, волосы слегка растрепались, и вообще она выглядела как человек, занятый исключительно своими мыслями. Ела она с большим аппетитом. После завтрака я прошел в ее мастерскую с твердым намерением удовлетворить свое любопытство.
Мастерская находилась во втором этаже того же крыла дома, которое оканчивалось конюшнями. Крутая лестница вела в нее из кладовой внизу. Наттана сидела на высоком стуле перед станком с педалями, как органист. В комнате было также нечто вроде верстака, шерсточесалка, кипами лежала шерсть, стояли корытца для красителей. Все окна были открыты, и сегодня тоже. В воздухе тонко перемешались запах шерсти, пряные запахи краски, теплой земли и дождя. Наттана пододвинула мне скамью с высокой спинкой и снова ушла в работу. Усевшись поудобнее, я стал наблюдать за девушкой.
Она сидела очень прямо, на самом краешке стула. Движения ее были выверенны и ритмичны и состояли из трех фаз: правая рука продергивала нить, левая, с помощью рычага, равномерно сдвигала ее вниз, а вытянутая нога нажимала на педаль: щелк-щелк. Потом левая рука продергивала нить, правая тянула рычаг, и двоекратно щелкала педаль.
Ткань была белой, с оттенком слоновой кости; платье Наттаны — зелено-рыжим. Голова ее едва заметно двигалась в такт рукам, словно кивала, одобряя работу станка, и блики света играли в волосах.
В перерывах между щелканьем педали можно было говорить. Скоро мы поймали ритм, умолкая, когда Наттана нажимала на педаль, и затем вновь возвращаясь к прерванному разговору.
— Я закончил ис — щелк-щелк — торию Соединенных Штатов, Наттана. Ее собираются опубли — щелк-щелк — ковать.
Мир и покой царили в комнате. Дождь то затихал, то вновь барабанил по крыше; по краям красных черепиц собиралась прозрачная бахрома капель, которые вдруг, разом, стекали вниз длинными струйками.
Свет скупо сочился из-под полуприкрытого солнечного окна, и в комнате залегли тени. Я позабыл о Наттане. На мгновение вспыхнувшая надежда почти заставила поверить, что Дорна любит меня, и я встречаю любящий взгляд ее глаз, и я, Джон Ланг, вместе с ней проникаю в тайны истинной любви. Мне виделось некое темно светящееся чудо, которое мне было дано испытать, — нечто очень неподходящее и бесконечно более прекрасное, чем те, зачастую предосудительные, связи, о которых я когда-то мечтал.
Быть может, то было смутное чувство вины, быть может, голос рассудка, внушавшего, что, независимо от чувств Дорны, моя бедность и мое инородство всегда будут непреодолимой преградой между нами, — но огонь в душе внезапно погас, и я почувствовал себя как никогда несчастным…
— Почти ничего не вижу.
Смысл произнесенных Наттаной слов дошел до меня лишь спустя несколько мгновений. Будто эхо откликнулось на другие, так и не прозвучавшие слова.
Не без труда вернулся я в тот сумрачный мир, где и в самом деле пребывал. Наттана сидела на стуле, поджав ноги, — темный силуэт на фоне темного окна.
— Что вы сказали, Наттана?
— Да нет, так. Слишком темно — ничего не видно. Отец все переживает из-за моста через реку, но это он всегда так.
— Вода вчера поднялась, — заметил я, помолчав.
— Отец боится паводка. Сегодня слишком тепло.
Какое-то время мы сидели молча.
— Джон? — неуверенно начала девушка.
— Да, Наттана.
— Что-то тревожит вас, мой друг.
Сердце мое затрепетало: меня почти разоблачили, хотя я никому ничего не собирался говорить о Дорне.
— Да, — тихо ответил я.
Наттана отвернулась к окну.
— Если не хотите, можете ничего мне не говорить, Джон.
Голос ее прозвучал ровно, почти безразлично.
— Наттана?
— Да, Джон.
— Я все-таки скажу вам. Я еще никому не говорил.
— Если не хотите… — быстро сказала она. — Но если вам действительно хочется сказать мне…
— Да.
— Я буду рада, и может быть…
Казалось, она в замешательстве. Я начал, осторожно подбирая слова, избегая островитянских обозначений «любви».
— Я хочу жениться на Дорне.
— Вы уже сказали ей это, Джон?
И снова голос Наттаны звучал ровно, почти безразлично.
— Она не дает мне сказать.
Я тяжело вздохнул.
— Не дает вам сказать? — мягко переспросила Нат-тана.
— Нет… мне кажется, она догадывается.
— А она… — начала Наттана и вдруг умолкла.
— Нет, она ни с кем не помолвлена, — ответил я, угадывая смысл ее неоконченного вопроса, — но она…
Я тоже запнулся.
— Это — ания? — в голосе ее прозвучала неожиданная боль. Потом, повернувшись и прямо глядя на меня, сказала с чувством: — Ах, Джон, простите! Ну конечно, да!
За что я должен был ее прощать?
— Да, Наттана, — ответил я, чувствуя, как кровь горячо приливает к лицу.
— И она не разрешила вам в этом признаться?
— Да!
Своим ответом я как бы признавал обратное.
В тишине стало слышно, как падают за окном редкие капли. Я не видел лица Наттаны, только темное пятно на фоне сумрачного окна, окруженное мягко светящимся нимбом волос.
— Как хорошо, что вы приехали, Джон.
Я догадался, что она вздохнула, по тому, как поднялись и опустились ее плечи.
— Не знаю, чем вам и помочь.
— Вы и так очень много сделали для меня.
Она улыбнулась — или это показалось мне?
— Нет, — сказала Наттана, — я ничего не сделала, хотя мне очень хотелось бы вам помочь.
Она помолчала.
— Сказать вам, что я думаю, Джон?
— Да.
Я затаил дыхание; что-то пугающее было в ее голосе.
— Я мало знаю Дорну, — начала она нерешительно, — но, мне кажется, вам не добиться ее.
Я и сам знал это, но мнение Наттаны прозвучало как приговор.
— Мне кажется, я нравлюсь ей.