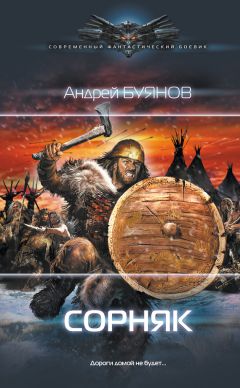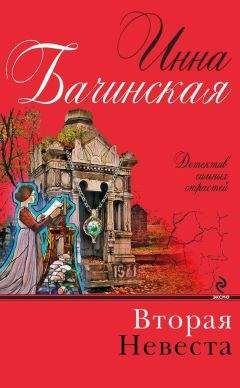Юрий Шамшурин - В тайге стреляют
Не привелось Степану за свою долгую жизнь видеть войны. Однако он слышал, будто это жуткое и страшное — люди убивают друг друга. Правда, давно уже известно, что далеко от якутской земли, в стране, где живут русские люди, идет большая война. Но это очень далеко.
За стенами юрты, одиноко притулившейся на краю аласа, медленно передвигала звезды темная августовская ночь. Неподвижные листья березы, схваченные первой желтизной, были обсыпаны росой.
Степан подавил вздох. Он сидел около сына, сгорбившись так, что подбородком касался колен. Загорелое лицо с крупными морщинами и взъерошенными бровями выражало тупое безразличие. Рука, густо переплетенная синими прожилками вен, лежала на ногах сына. Корявые огрубевшие пальцы машинально теребили одеяло.
— Однако, на озера надо кочевать, балыксытом[14] стать, — прошептал он. — Иначе с голоду помирать придется!
Назарка пошевелился, приподнял воспаленные веки и уставился на отца. Он не узнал его в полусумраке юрты, равнодушно перевел взгляд кверху и чуть слышно прошептал:
— Пить...
Степан поднес к его губам чашку с водой.
— Назар, Назарка! — тихо окликнул отец. — Это я, посмотри.
Но Назарка ничего не слышал, не узнавал. Он жадно припал к чашке и принялся пить частыми судорожными глотками, захлебываясь и перемежая глотки вздохами. Приподнятая голова тряслась. Вода капала на подушку, не впитываясь в засаленный ситец, шариками скатывалась под одеяло. Колеблющийся огонек светильника передвигал тени, меняя выражение Назаркиного лица. Казалось, он передразнивал кого-то, видимого ему лишь одному.
Напившись, Назарка устало закрыл глаза и обессиленно откинулся на подушку.
Степан осторожно отвел со лба сына пряди растрепавшихся волос, вытер концом платка губы. В юрте стояла тишина. Не слышно было привычных шумных вздохов коровы и ее мерного жевания.
«Где-то она теперь?» — подумал Степан.
Он мысленно представил в просторном хотоне тойона свою кормилицу, за которой ухаживают чужие, неласковые руки. Сердце защемило. Обида на свою беспросветную жизнь, на безжалостного Уйбаана, на окружающий враждебный мир закипела в нем, слезы горечи и бессилья готовы были сорваться с ресниц. Но Степан не заплакал — не привык. Он до боли стиснул зубы, с усилием проглотил комок, внезапно подкативший к горлу, и с излишним старанием начал уминать в трубку табак.
В крохотное подслеповатое оконце из кусочков стекла, вшитого в бересту, медленно, как бы нехотя, проникали проблески бледной зари. Поднявшийся ветер принес в юрту глухой перекатный ропот тайги. Деревья шумели однообразно и тягостно.
Степан выкатил из камелька алый уголек, подбрасывая его на ладони, пристроил на трубку и усиленно зачмокал. Усевшись на прежнее место, он долго курил, выпуская изо рта тонюсенькую струйку дыма. Потом еще раз вздохнул, поправил постель сына и разбудил жену.
По приезде домой Павел надумал серьезно поговорить с отцом. Старик, несмотря на свой преклонный возраст, никак не хотел отходить от управления своим обширным хозяйством. Ключи от многочисленных сундуков и амбаров он неизменно держал при себе, не расставаясь с ними ни днем, ни ночью. Что хранилось в некоторых сундуках, не знал даже сын.
Павел и раньше не раз делал попытки взять хозяйство в свои руки, но отец не уступал. Разъяренный настойчивостью сына, он грозил выгнать его из юрты, кричал надтреснутым бабьим голосом, плевался. Павел отступал. Но постепенно его притязания становились все более настойчивыми.
Павел видел, что отец с годами становится все более скупым, занимается мелочами, забывая о главном. А Уйбаанов сын мечтал зажить наконец по-настоящему, стать полновластным распорядителем, чтобы никто не ограничивал, не стеснял его. Мелкие придирки отца порой доводили Павла до бешенства.
На этот раз он решил добиться своего во что бы то ни стало. Если не отстранить отца от хозяйства, то старик может помешать в создании отряда. А Павел после совещания тойонов принял твердое решение — бороться с новой властью.
Все произошло в тот самый день, когда Уйбаан отвез Назарку к его отцу и сидел в юрте один, отдыхая после поездки. В юрту вошел Павел, встал перед камельком, заложив руки за спину. Старик следил за ним выцветшими глазами, не выказывая ни радости, ни удивления. Но морщинистая рука, помимо воли, потянулась к ключам. Кончиками пальцев он погладил холодные железки. Павел, шурша подошвами торбасов о земляной пол, перешел к столу, сел на другом конце от старика. Уйбаан догадывался, зачем в неурочный час пожаловал сын, и выжидающе молчал, пощипывая седую бородку. Он беззвучно шевелил губами, словно заранее подбирал слова, которые выскажет сыну.
— Отец! — вкрадчиво заговорил Павел после продолжительного тягостного молчания.
— Не дам! — замахал Уйбаан руками, догадавшись, о чем хочет сказать сын. Изо рта полетели брызги. — Не говори!.. Не дам!.. Когда умру, все возьмешь, все твое будет! Тогда своей волей заживешь!
Павел слушал старика, не отводя взгляда от его одутловатого лица с обвислыми щеками. Он видел, как тряслись под подбородком складки кожи, разделенные глубокими морщинами, как нездоровым румянцем наливались скулы.
Павлу вдруг вспомнился отец молодым, богато одетым, с властным, надменным голосом. Перед ним, согнувшись в три погибели, суетились хамначиты. Никто из прислужников не смел взглянуть в глаза грозному владыке. По существу, эти полуоборванные бедняки были рабами Уйбаана. От его каприза зависели их благополучие и сама жизнь. На минуту Павлу стало жаль сидящего перед ним немощного старика, но он решительно подавил в себе это чувство. Жалость — плохой помощник.
— Выслушай меня, отец, — промолвил Павел как можно спокойнее, когда Уйбаан замолчал, задохнувшись. — Я уже взрослый. Сам же говорил, что мне жениться пора, невесту даже хотел найти — умную, городскую. Тебе тяжело одному, стар уже. Я же тут останусь, ты все видеть будешь, советом поможешь. И тебе лучше и мне...
— Не дам! — перебил отец.
В груди Павла копилась злость, но он сдерживал себя, хотя это стоило ему немалых усилий.
— Пойми же ты, — как ребенка, убеждал он отца, — мне нужна сейчас мука, чай, сахар, денег много надо.
— Мешок муки бери, сахару маленько бери, спирту возьми. Куда тебе шибко много? Гулять, наверное, хочешь, мое мотать? Дружки сразу отыщутся. К сбитой холке все мошки липнут!
Старик не хотел понять или действительно не понимал его, и это бесило Павла. Он скрипнул зубами, тяжело уронил на стол жилистую руку. Под ногами доверчиво вертелся щенок. Павел яростно пнул его носком торбаса. Щенок с отчаянным визгом отлетел к двери и долго еще тихонько взлаивал и скулил, забившись под орон.