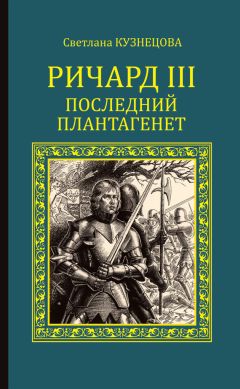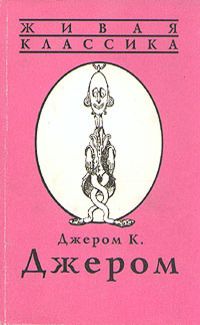Александр Маро - Аластор
– Ну и пусть! – решительно бросил Сашка. – Это лучше чем ждать, чьей-то милости.
– Милости?! – воскликнул Аластор. – Вот оно, значит, как!
Его плечи чуть приподнялись вверх, в грудь хлынул влажный воздух, казалось, он вот-вот взорвется грозной тирадой, но Аластор замолчал. Тишина, повисшая меж ними мрачным ожиданием, целиком наполнила и душу мальчика. Явственно вдруг перед его глазами вспыхнул образ мстителя в черном цвете – легенда, дух окрепшей плоти. Сашке стало не по себе. Только сейчас он осознал, какую опасную игру затеял. Будто и вовсе забыл, кто перед ним. По телу пробежали мурашки, и от повисшей тишины сделалось дурно.
– Что ж, – словно нехотя выдавил из себя Аластор, – будь по-твоему. Только знай, если будешь обузой, я тут же избавлюсь от тебя, как от навязчивой собачонки, понял?
– Да, – хрипло процедил Сашка, уже и не претендуя на что-то большее.
– Ну, вот и хорошо! – заключил Аластор. – Завтра мы отправимся в Солнечногорск. И перед дальней дорогой необходимо как следует выспаться.
Он заложил под голову кусок овечьей шкуры, лежащей возле костра, потянулся и нехотя пояснил, выхватив из тускло освещенной материи удивленное лицо мальчика:
– В городе живет один торговец, он обязан мне жизнью. Его помощь может оказаться нам весьма полезной.
– А… – Сашка хотел еще о чем-то спросить, но Аластор резко оборвал его:
– Спать!
И лениво отвернулся к стене.
Вновь опустилась тишина – залила отроги и большой, шероховатый купол. Тлеющие угли, словно дыша, то наливались ярко-красным огнем, то остывали, темнели и наконец погасли вовсе, оставив громоздкие своды в тонком переплете мелких огней тающих свечек. Почти как звезды на небе, они блестели таинственным, ярко-серебряным светом; чем-то манили, о чем-то шептали и незаметно, совершенно против воли погрузили в глубокое таинство сна, на прощание слипшись в густую, переливающуюся массу. Глаза закрылись, и все ушло – исчезло и соединилось с миром окутанного мраком бытия.
Чудесное явление природы, рассвет, здесь, в темных сводах пещеры, представал лишь как часть некой массы бесконечности, в которой отсутствовало и само понимание времени; но человек с его силой привычки, с его даром творца, невообразимо нуждающимся в подобном разделении, упрямо наделял привычными формами то, что уже давно лишилось и понимание оного.
Сашка любил, когда его будили первые лучи солнца. Там, в Вышгороде, на третьем этаже обветшалого, старого дома он всегда засыпал с твердой уверенностью того, что следующий день будет таким же, как и прежде. Что вновь потянется к нему веселый ранний свет сквозь незадернутые занавески и, увлекая за собой, потянет на улицу. Как же тяжело было расставаться с привычными образами! Вот и сейчас он вдруг явственно ощутил переживания своего исчезнувшего сна – он в узком, душно пахнущем сиренью дворе резвится с ребятами, а из залитого солнечным светом окна, за ним внимательно наблюдает Александр Иванович. Лицо его в белом мареве тумана, будто чуть смазано и едва различимо, но отчего-то явственно в ней угадывалась лишь одна деталь – широкая добродушная улыбка, которую очерчивал седой контур пышных усов.
С пробуждением сон почти растаял, но ощущение того, что старик счастлив, почему-то не покидало Сашку. Какие теперь могли быть сомнения?! Конечно же, у людей есть душа!
Теперь это казалось ему естественным, не требующим ни особых познаний, ни доказательств. Он больно чувствовал то же, что и многие другие до него, пережившие потерю близкого человека; чувствовал, как внутри обрывается что-то, будто натянутая звучная струна, и страшным опустошением заливает все естество. Что-то болело в груди, тосковало, и искало утешения. Что это, как не часть великого, светлого дара, пожертвованного людям? А в людях неизменно есть высшее начало. Пусть оно забыто, пусть в него не верят. Но оно есть! А раз так, то значит, есть и светлые души, ни запятнавшие себя ни мерзостью, ни обманом. И, конечно, Александр Иванович был достоин счастья. Того самого, от которого была так щедра его улыбка в этом далеком, залитом солнце окне и на которую так скупа была вся его жизнь.
Ничто не убеждает нас так же крепко, как явственный и живой сон, и оттого, видимо, не столь тягостным казалось пробуждение.
– Проснулся, – мимоходом буркнул Аластор.
Он уже бодрствовал, начищая до черного, жирного блеска свои армейские берцы, будто только выменянные им на блокпосту у охранной стражи. Известно, это было несложно, и, приложив минимум усилий, можно было получить и хорошую обувку, и добротный полевой костюм, и даже – правда, это было несколько сложнее – армейский, перочинный ножик. Навряд ли, конечно, Аластор связывался с вооруженной охраной Республики (или уж по крайней мере делал это не для обмена), но то, что он все-таки не до конца сторонился людей, было понятно по его великолепному оснащению. Да и морфий требовал постоянных закупок. И у него, конечно же, подобные каналы связи имелись.
– Если ты собираешься и дальше валяться в постели, – Аластор по своей привычке аскета называл постелью всякое место, где был расстелен кусок овечьей шкуры или куда ложился он сам, – то оставайся здесь и жди моего возвращения.
– Вот уж нет! – вспыхнул Сашка и с энергией, которая пронизала всю его натуру. Вскочив на ноги, он метнулся к извилистому желобу воды, затем быстро умылся и, отряхнув нехитрую одежду, встал перед Аластором в добротной солдатской выправке. Должно быть, это позабавило отшельника, и он непривычно мягко произнес:
– Тогда вперед.
Скорый завтрак из маленьких диких яблок пришлось дожевывать уже на ходу, пробираясь сквозь невысокие узкие штольни. Кто и когда пронизал эту твердь скалы длинными ходами тоннелей, оставалась загадкой, но их протяженность вызывала восхищение и священный трепет. Они разветвлялись, широкой сетью шли в разные стороны, упирались в галереи, переходили одни в другие, и, в общем, умение Аластора ориентироваться в этой системе сложных коридоров, не пользуясь притом никакими инструментами, если, конечно, не считать за таковой самодельный факел в его руках, вызывало истинное, почти магическое восхищение. В любом случае, кто бы ни был архитектором этой вереницы бесчисленных коридоров, ясно было только одно – это был истинный лабиринт, в котором существовало множество ходов и ответвлений и, наверное, столько же и выходов на дневную поверхность. Подтверждение этой мысли пришло скоро, когда под ноги плеснуло узкую полоску карниза, висевшую над глубоким длинным ущельем. Сашка застыл на месте, прижавшись спиной к холодной глади скалы. Ему показалось, будто шумный гомон птиц раздается и сверху, и снизу и, схлестываясь воедино, сотрясает каменные горы до самого основания… Он вдруг ощутил этот трепет, пронизывающий тело, почувствовал жар, пробежавший скоротечной волной, а окостеневшие ноги будто прилипли, срослись с каменным основанием, приросшим к стене карниза. Впрочем, растревоженное волнующими впечатлениями воображение довольно быстро угасло, и разум позволил себе вновь взяться за дело. В скупом пейзаже он выделил теперь только тонкую, темно-бурую линию, скользившую над огромной серой бездной. Она будто висела в воздухе и казалась тоньше каната, хотя истиной ее ширины вполне хватило, чтобы вместить, не создав затруднений, двух человек с плотной поклажей за плечами.
Сашка сжал пальцы – рука интуитивно вцепилась в край расщелины, напоминавший неровный, арочный свод – и взглядом пробежал по узкому уступу. Дальнейший маршрут виделся сущим испытанием, вдоль отвесных скал, по тропинке усеянной мелким камнем, куда-то вдаль, от которой веяло ледяным холодом, хотя над горной грядой висело раскаленное добела солнце. Стоило отдышаться, прийти в себя и ни в коем случае не смотреть вниз. Это правило известно, кажется, всем, но как же трудно, стоя на вершине, не податься этому глубинному чувству. И Сашка не выдержал. Чуть наклонившись, он всмотрелся на дно стелившегося под ногами ущелья, заваленного камнями и огромными глыбами, и тут же, почувствовав головокружение, вновь вжался в стену.
Аластор оказался неподалеку, всего в нескольких метрах от застывшего в позе распятого Иисуса мальчишки. Его взгляд, брошенный вскользь, верно означал что-нибудь вроде «я же тебе говорил, сиди в пещере», но на месте он долго не задержался; отшвырнув в сторону чадящий факел, Аластор ничтоже сумняшеся вновь двинулся вперед, всем своим видом показывая, что тратить время на пустые уговоры он не собирается.
Закусив губу, Сашка сделал первый шаг – он показался ему рывком в бездну. Затем второй – несмелый и короткий; ноги по-прежнему чувствовали твердь нависающего над ущельем карниза. Затем он осторожно, прощупывая воздушными шагами стелящуюся впереди дорогу, потянулся вслед Аластору. Тот, впрочем, двигался нарочито медленно, давая возможность не потерять его из виду, и чувствовалось – хотя это практически и не было заметно – как он аккуратно поглядывает за спину. Отвесная стена, к которой прижимался Сашка, была холодна и измазана птичьим пометом, но все равно она была единственной, что дарило блаженное чувство покоя. Пальцы прощупывали расщелины в скале или неровные выпуклости, хватались за них, и медленные, аккуратные шаги делались тверже и уверенней. Постепенно узкий скальный выступ, облизав отвесную стену горы, потек вниз, устремившись к хребту, сточенному ветром до причудливого вида двурогого седла. Где-то у его вершины, полоска карниза, хрустевшая под ногами, расширилась и без всякой границы влилась в пологий склон холмистой гряды. По еле уловимым признакам, среди навалов и камней Аластор нащупал узкую ленту тропинки, стоптанную до мелкого щебня, и пустился вниз, умело огибая разбросанные по всему склону остроконечные глыбы и сточенные ветром валуны.