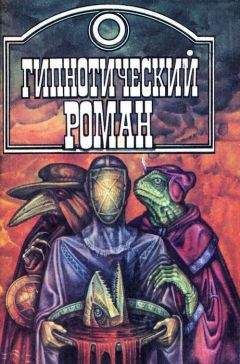Густав Эмар - Маисовый колос
Отложив это письмо в сторону, он написал третье:
«5 мая 1840 г.
Сеньору полковнику Саломону.
Высокоуважаемый сеньор!
Всем известно, что вы представляете собой краеугольный камень федерации и что наш великий реставрадор не имеет друга, более верного и самоотверженного, чем вы, поэтому мне больно слышать во всех посещаемых мной и хорошо известных вам домах, что народное собрание, достойный председатель которого вы, не оказывает полиции должного содействия в борьбе с унитариями, которые каждую ночь целыми толпами эмигрируют в армию Лаваля.
Если слух об этом дойдет до реставрадора помимо вас, то он, конечно, будет весьма огорчен этим; вот почему я в качестве вашего искреннего друга, горячо принимающего к сердцу ваши интересы, позволю себе посоветовать вам сегодня же собрать у себя надежнейших членов федерации, приказать дать вам подробный отчет обо всем, что им известно о последних беглецах, и обсудить вместе с ними, какие следует принять меры к пресечению дальнейшей эмиграции.
Я буду иметь честь присутствовать на этом собрании и, как делал уже много раз раньше, помогу вам возбудить патриотизм и энергию избранных защитников реставрадора. Хотя вы — я это прекрасно знаю — и одни могли бы воспламенить вашим поразительным красноречием целую армию, в особенности, когда дело идет о благе федерации и о драгоценной жизни нашего славного реставрадора, но ведь люди так любят слышать подтверждение от других того, что говорит один!
Соблаговолите сообщить мне час вашего собрания.
С глубочайшим уважением остаюсь вашим покорнейшим слугой.
Мигель дель Кампо».
— Ну, этот тоже в моих руках, — с улыбкой подумал молодой человек, складывая письмо. — Эх, если бы у меня было еще хотя бы два таких помощника, как я сам, то все эти доны Фелиппе и полковники Саломоны мигом разорвали бы в клочки Розаса!.. Впрочем, если мне хорошенько напрячь свои силы, то я, быть может, и один сумею спасти отечество... Однако остается написать еще одно письмо и при том самое важное.
Открыв потайной ящичек в своем письменном столе, он достал оттуда лист бумаги, покрытый условными знаками, и, поминутно справляясь с ним, набросал на зеленом листке бумаги следующие строки:
«Буэнос-Айрес, 5 мая 1840 г.
Сегодня ночью пятеро из наших друзей были захвачены в тот момент, когда они собирались бежать. Салазар, Пальмеро, Сандеваль и Маркес убиты; по крайней мере я имею твердое основание считать их убитыми. Только одному из них удалось спастись каким-то чудом. Если вам придется говорить с кем-нибудь об этом деле, то не называйте никого, кроме упомянутых мной лиц».
Свернув эту записку особенным способом, дон Мигель тщательно запечатал ее и надписал на ней следующий адрес:
«3. 53-го. Монтевидео».
Затем он вложил ее в конверт с другим адресом. Положив этот конверт под бронзовую чернильницу, он дернул шнурок звонка.
Вошел Тонилло.
— Знаешь, что, Тонилло, — начал дон Мигель с озабоченным видом,—ведь дело пошло вовсе не так, как я желал и рассчитывал. Рекрутский набор производится ныне с особенной строгостью; генерал Пинедо и слышать не хочет о том, чтобы дать тебе льготу. Если ты в самом деле не желаешь служить, то мне придется вторично похлопотать о тебе и пустить в ход особенные пружины, чтобы выручить тебя.
— Помогите, ради Бога, сеньор! Я вам за это весь век буду благодарен, — проговорил Тонилло со слезами на глазах. — Мне очень не хочется оставлять такого доброго господина, как вы, и идти в солдаты! Я вырос в деревне, и там не любят солдатчины...
— Да теперь и служба будет очень тяжелая. Мне самому так хотелось бы избавить тебя от опасности быть убитым через несколько дней после вступления в армию. Я слышал, что собираются воевать. Ведь ты родился в имении моего отца, вырос у нас в доме, и я привязался к тебе, как к человеку близкому... Кажется, я тебя никогда и словом не обидел... вообще тебе было хорошо у нас.
— О, сеньор! — воскликнул Тонилло дрожащим голосом, — да у вас все равно что в раю!
— Это приятно слышать, Тонилло. Да оно и действительно, чем тебе не житье: в знак полного доверия я сделал тебя своим камердинером, поставил над всеми остальными слугами, поручил тебе заведовать всем домом и позволяю распоряжаться деньгами, которые я выдаю на хозяйство, никогда не спрашивая у тебя отчета. Разве все это не правда, Тонилло?
— Истинная правда, сеньор!
— Когда я нуждаюсь в лошадях, то всегда прошу отца выслать, кстати, и для тебя одну. Вообще все слуги и Буэнос-Айресе завидуют тебе, и они правы. Поэтому не мудрено, что тебе не хочется в солдаты.
— Да, сеньор. Если уж нужно непременно убить меня, то пусть лучше убьют тут, в вашем доме, чем тащить меня Бог весть куда.
— А за меня дал бы ты убить себя, если бы на то пошло? Представь себе, что я вдруг очутился бы в величайшей опасности, и только ты мог бы спасти меня...
— О, сеньор! — укоризненно проговорил молодой человек, — неужели вы можете сомневаться в этом? Само собой разумеется, что я дам изрезать себя на куски за вас! Для кого же я и живу на свете, как не для своего дорогого сеньора?
Дон Мигель пристальнее вгляделся в открытое лицо слуги, и увидев там полную искренность истинного сына пампасов, еще не испорченного городской жизнью.
— Я так и думал, — проговорил, наконец он. — А если я ошибся в тебе, если не сумел верно прочесть, что написано в твоем сердце, то мне нечего надеяться на успех в своих делах.
Проговорив последнюю фразу как бы про себя, дон Мигель взял три письма и продолжал:
— Ну, хорошо, Тонилло, я постараюсь отстоять тебя от военной службы и, наверное, отстою, потому что теперь не пожалею ничего для этого... Пока же вот тебе поручение: в девять часов утра снеси донне Авроре букет цветов. Скажи у нее в доме, что тебе приказано передать его лично, и когда она выйдет, передай ей вместе с цветами это письмо, но только так, чтобы при этом никого не было. Потом ты отправишься к дону Фелиппе Арана и отдашь ему вот это письмо, а от него пройдешь к полковнику Саломону и вручишь тоже письмо. Смотри, не перепутай письма и отдавай каждому, какое следует, а то наделаешь мне большие неприятности.
— Будьте покойны, сеньор, не ошибусь.
— Погоди, вот еще что...
— Что прикажете, сеньор?
— Когда отдашь письмо полковнику Саломону, пройди к донне Марселине...
— К той, которую...
— Да, да, именно к той самой, которую ты на днях не впустил ко мне, и ты был прав, поступив так. А сегодня скажи ей, что я прошу ее пожаловать ко мне немедленно.
— Хорошо, сеньор.
— Думаю, что ты возвратишься в десять часов. Если я в это время буду еще спать, ты разбудишь меня.