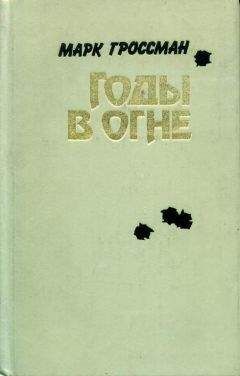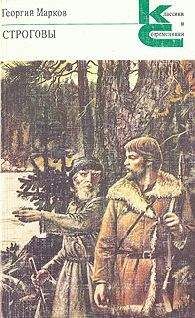Марк Гроссман - Камень-обманка
— Много ли верст до Модонкуля, Катя?
— Ах, опять ты за свое! Не добрести нам туда.
— На юг?
— Да.
— А на восток что?
— Шимки́, Кырен, Тунка́. А там и Иркутск.
— Тропы на Модонкуль знаешь?
— Откуда ж? Да и хребты ломать надо. У меня на то сил нет.
— Там, за рубежом, дороги есть?
Катя отвернулась и промолчала.
— Есть или нет?
— На Косогол тракт. А можеть, и не тракт — полевка.
— Косогол — озеро?
— Да. Большое.
— Вспоминаю. Оно на всех картах есть. Ну, что ж — идем.
— Куда ж грестись? По долинам мы бы на Монды спустились, на Кырен. А ежели к границе, через хребты — зверья тропа нужна. Без нее только вертеться станем, вроде волчка.
— Вот и давай искать ее, тропу жизни.
Он тотчас понял, что фраза получилась глупая, фальшивая, хотя все в ней было по существу правильно, и, чтобы зачеркнуть душевную неловкость, невесело рассмеялся.
— Ты о чем?
— Да так, ни о чем. Земля вертится, и мы с ней заодно.
До самого вечера шли вдоль Шумака. Все тропы змеились по реке или уходили через броды в гольцы, на север.
К заходу солнца Катя устала, мелкий пот выступил у нее на лбу, и она все чаще отставала от Андрея.
Россохатский с удивлением приглядывался к Кирилловой. Он помнил, как сравнительно легко выдержала женщина каторжную зимнюю дорогу от Китоя к Шумаку, и сейчас не мог понять, отчего вымоталась так начисто.
Подумав, решил, что виной всему собачья жизнь и волнения, которыми до предела были полны их тяжелые дни, и назначил привал.
Но Кириллова стала возражать против стоянки у Шумака.
— Пойдем в сторонку… Не по себе мне тут, милый…
— Что так?
— Не знаю. Тоска томить. Страху во мне по горло.
Они углубились в тайгу, зашли в заветерье, за кедры, и Андрей постелил шинель на густую траву. Он стал было собирать сушняк для костра, но женщина махнула рукой.
— И так ладно. Огонь далече видать.
Устраиваясь на ночь, попросила:
— Знаю, устал. А все ж — постереги меня. Оклемаюсь — тя покараулю.
Андрей кивнул, привалился спиной к кедру, положил на колени карабин. Долго и вяло прислушивался к плеску и дальнему гулу Шумака. Вероятно, где-то ниже по течению, река падала с большой высоты на каменное ложе, и окрест разносился неумолчный рев водопада. Он был приглушен расстоянием, но все же достаточно хорошо различим.
Россохатскому казалось, что Катя заснула. Но внезапно женщина протянула руку, потрогала его ноги, обутые в истерзанные поршни из сырой медвежьей кожи, и успокоенно повернулась набок.
Он вскоре услышал ровное дыхание, и в наступившей темноте пытался рассмотреть лицо Кати. Но луна пряталась за тучами, и Россохатский, вздохнув, стал сворачивать цигарку.
Закурив, спрятал огонек в сдвинутых ладонях — «Я тоже, выходит, чего-то боюсь!» — и стал думать о Кате.
Он думал о том, что бывает разная любовь. Одна, как вспышка с неба, озаряет человека; другая — медленно, будто деревце, набирает силу и наконец осеняет твою жизнь; а случается, вероятно, и такое чувство, которому дружба или привычка служат надёжной колыбелью. Это всё — любовь. А сколько подделок под нее всяких — и минутных, и вековечных, и от расчета, и от выгоды, и от разных житейских обстоятельств, какие и предусмотреть нельзя!
Любит ли он Катю? Конечно. Даже трудно представить, что может она исчезнуть из его жизни, стать мимолетным, сторонним человеком. Нет, бобылья жизнь ему не грозит, и, верно, не обошла б его стороной женская ласка. Ведь даже кривые и дураки выходят замуж или женятся, потому что кривой всегда найдет кривую, дура — дурака, а он, Россохатский, все же не глуп и не урод. Но теперь он знает до конца: никто, никогда, после Кати, не даст ему такой радости, как она, и это трудно объяснить не только другим, но и себе. Конечно, она красива, и наряди ее в шелковое городское платье, в туфельки на высоких каблуках, уложи парикмахер ее длинную льняную косу, как следует, — и мужчины будут глядеть ей вслед, всякие мужчины, даже верные своим женам.
Но мало ли красавиц на свете? Да и любят ведь не одних красавиц. За что же любят?
Он стал перечислять в уме качества, которые хотел бы видеть в своей жене, и назвал прежде всего доброту, и нежность, и скромность, и терпение, и душу — все, что укладывается в понятие «женское».
Россохатскому и раньше приходилось переживать чувство, похожее на любовь. Казалось, он никогда не забудет ни одну из женщин, с которыми был близок. Но проходило время, жизнь растаскивала в разные стороны, и одних забывал он, другие — его. Впрочем, правды ради, следует сказать: ни одну из тех женщин Андрей не вытравил из памяти начисто.
Так, может, Катя права, когда ужаснулась, что он был в прошлом близок с женщинами и потратил на них душу? Нет, кажется, не права. Как бы ни была сильна любовь, но если потом или раньше тебя обжигало пуще, то вот это, потом или раньше, и есть настоящая любовь.
Не очень уверенный, что он до конца правдив и честен с собой, что ему и в самом деле удалось найти истину, Андрей нащупал лицо Кати и погладил ее шершавые, обветренные щеки.
«Я забыл в любви самое важное, — подумал он, — ее обоюдность. Неразделенное чувство трудно назвать любовью, хотя, кажется, самая сильная страсть — это именно страсть без ответа».
На одно мгновение из-за туч выступила луна, осветила тайгу, но тут же снова стало темно, еще чернее, чем было. Андрею показалось: он ослеп, и прозрение никогда не наступит. От этой мысли сделалось зябко, и он опечалился, что впереди у него тоже черная ночь, и в ней едва ли будут просветы. И именно потому его связь с Катей неправомерна и грешна, ибо, погибая, он может увлечь ее за собой или сделать несчастной.
В самом деле, что впереди? Рассчитывать на пощаду красных невозможно. Он воевал против них, правда, не зверствовал, не лютовал, а, взятый силком, лишь плыл по течению. Но кому придет в голову взвешивать на весах его прегрешения и достоинства? Годы противостояния, и крови, и гибели, и взаимных обид, и плача, и пепла ожесточили всех. Можно это понять, успокаивая себя на плахе: все, что родилось, умрет, и все находят дорогу к смерти, раньше или позже.
Ну, а коль бежать за рубеж? Последует ли за ним Катя? Едва ли. Что делать ей, таежнице, лесному русскому человеку в чужом, неведомом, далеком душе краю? Однако рядом с ней будет он, Андрей. Разве этого мало? Может статься, сперва и немало. А потом? Скучная, мелочная жизнь без средств, без русского языка за пределами своего дома. Да и будет ли он, свой дом? Откуда ж! Сколько русских выметено гражданской войной за рубежи, и те, у кого были средства, может, и смогли устроить себе сносный или достойный быт. А рядовые разбитых полков, офицеры без золота и драгоценностей, генералы без денег и протеже за границей — кто они там, чужие в чужой земле? Кучера, водители таксомоторов, официанты, управляющие имениями, домашние учителя, грузчики, сутенеры. Для этого не к чему лезть в пекло, переходить рубеж. Что же делать? А-а, черт с ним, будь что будет!