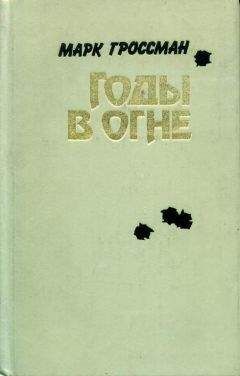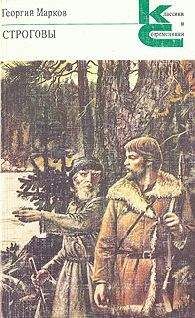Марк Гроссман - Камень-обманка
— А-а!.. — раздраженно махнула рукой Кириллова. — Бык поеть для коровы в сентябре, а теперь июнь. Какой же изюбрь?
Китаец, услышав эти слова, явно забеспокоился. Он приблизился к Кате, взял ее за рукав, быстро забормотал:
— Я пойди, смотли — кто? Если плохая люди, я убивай его.
И тотчас метнулся в зимовье, выскочил оттуда с понягой, мешком и винтовкой.
Вскоре его легкие шаги растаяли за деревьями.
Андрей и Катя вернулись в избу.
Дин не пришел ни в этот день, ни на следующий, ни через неделю.
Вместе с ним исчез почти весь запас винтовочных патронов.
ГЛАВА 21-я
ПО ТРОПАМ ТАЕЖНОГО ЗВЕРЯ
— Надо уходить, сотник. Ты же сам видишь — смертей на человека много, и они стерегуть нас, окаянные!
Катя заглядывала в глаза Россохатскому, сжимала ему руки, и всю ее сотрясал мелкий птичий озноб.
Андрей посмотрел на женщину, и ему стало не по себе. Кириллову, казалось, подменили. Она осунулась, потемнела, в глазах застыли страх и тоска, будто у кабарги, загнанной волками на отстойник[68], с которого уже никуда не убежишь.
— Ладно… ладно… лапушка… — бормотал Андрей, поглаживая женщину по русой, кое-как заплетенной косе. — Мы уйдем, непременно уйдем… Но подожди чуток, может, вернется Дин. Вдруг с ним беда, а мы бросим его здесь, в дебрях, одного.
— Ах, боже мой! — нервно передергивала плечами Кириллова. — Оставь глупую мысль, это Дин извел Гришку, кто больше? На его, старого черта, совести кровь Хабары!
— Да… да… Но все же надо поискать человека.
— Ведь всю тайгу избродили. Не хочу дале таскаться тут. Всюду, за каждым комлем хоронится смерть. Хватить с меня, Андрей!
Россохатский уступил Кате. Ему самому, сказать правду, было страшно в этом проклятом месте, да как признаешься?
Они собирались в дорогу поспешно, но подготовили все, что смогли. Андрей пришил к переметной суме лямки, чтоб нести ее, как заплечный мешок. Уложил туда топор, остатки соли, кулек с мукой, спички в пустой фляге, пробку которой залил жиром. В крепком мешочке был мясной порошок — вареная, высушенная и мелко истолченная в деревянной ступе оленина.
Ватой, выдранной из куртки Хабары, протер карабин и бердану, обернул в промасленную тряпку пять патронов — четыре винтовочных и один дробовой — для ружья. Это был весь запас, который у них остался. Под конец надел шашку, перекинул через плечо веревку, доставшуюся от покойного артельщика, и непроизвольно взглянул на часы. Он давно уже ставил их наугад, по солнцу, и они исправно тикали на руке, равнодушные ко всему на свете.
В середине дня, кончив сборы, Катя сказала, опустив голову:
— Остались мы с тобой одни, никого нет. Разметало всех, как осенние листья.
Вздохнула:
— Посидим перед путем. Однако маленько. Боюсь я чё-то…
— Подожди минуту, — попросил Россохатский.
Он быстрыми шагами, почти бегом спустился к Шумаку и присел на камень подле маленькой насыпи, поросшей желтым лютиком, пестренькой камнеломкой, безлистным баданом. Под насыпью лежал Зефир, боевой конь, его верный товарищ военной неудачливой жизни.
— Прощай, дружок, — сказал после недолгого молчания Андрей. — Прости меня, дурака, Зефир.
Вернувшись к Кате, присел рядом с ней на пенек и, ссутулившись, замер.
«Кажется, наступает последний акт драмы, — думал он уныло. — Идем черт-те куда и зачем…»
Он взглянул на Кириллову, поправил на плече карабин и резко поднялся с пенька.
Катя тоже вскочила, надела понягу, помогла Андрею продеть руки в лямки сумы, и они, в последний раз поглядев на зимовье, быстро зашагали вдоль Шумака.
Через час на небольшой поляне, со всех сторон стиснутой кедрами и соснами, Катя остановилась и, скинув ношу, проговорила:
— Шабаш. Тут — отдых. Да и решить надо, куда наш путь.
Андрей ждал этого разговора и боялся его. Знал, что Катя не согласится уходить за границу, а он не может остаться в России. В родной стране ему теперь нет угла, кроме как на погосте. В любом селе, если не местная власть, то какие-нибудь вооруженные люди выведут его в расход и будут, разумеется, правы, потому что у войны, тем паче гражданской, не терпящей компромиссов и поблажек, свои законы.
Немного отдышавшись, Россохатский, будто ненароком, осведомился:
— Далеко ли до рубежа, Катя? Как идти?
Кириллова отозвалась раздраженно:
— Негоже нам забиваться в чужую сторону…
Она внезапно подвинулась к Андрею, спросила, заглядывая ему в глаза:
— Ты меня любишь — али так просто?
Этот вечный бабий вопрос рассердил Россохатского. Он хмуро посмотрел на женщину, проворчал:
— Сколько ж можно — одно и то же?
Катя сдвинула брови.
— Столько, сколько спрашивають.
— Мне скучно, нельзя без тебя жить, Катя. И хватит о том, пожалуйста.
— Ну, коли правда, слушай, чё отвечу. Ты мне один на всей земле. Ежели помрешь — и я не жилица на свете. Не хватить духу стрелять в себя, с тоски сдохну. Это я те, можеть, также наперед, на весь век толкую… Так вот — непутное не посоветую. Не к чему за межу бежать. По горе не за море: не огребешься и дома.
— Ах, боже мой! — пожал плечами Россохатский. — Разве ж я не люблю отечество, Катя? Да ведь застрелят меня в России!
Кириллова отозвалась убежденно:
— Прежде смерти не помирай. Война — там, само собой, люди лютують и головы рубять без милосердия. Но ведь конец бою. Тихо теперь, чать. Устали все от крови, от зла, от смерти на каждом шагу.
Она взяла голову Андрея в грубые, потрескавшиеся руки.
— К людям иди, скажи, как есть, пощады проси. Повинную шею и шашка не сечеть.
Помолчали.
— Ну, можеть, сошлють тя куда, и бог с ними, пусть ссылають. А я — за тобой, хоть на Лену, хоть на Индигирку ползком поволокусь. Нам ведь ничё не надо, кроме как вдвоем быть… Али не так?
— Удавят меня — кайся не кайся, — усмехнулся Андрей. — Ибо: мне зло, и аз воздам.
— Коммунисты — они в Христа не верять, у них свой бог, тут, на земле.
— Что чужой бог, что свой черт — цена одна… А на чужбине… что ж, работу сыщу, совьем гнездо, какое судьба даст. Будем жить тихонько да о России сны глядеть.
Сказав это, Россохатский жалко посмотрел на женщину и, чувствуя, что вот-вот по его щекам потекут слезы долго сдерживаемой обиды и горечи, отвернулся. В этот миг ему показалось, что он никогда не сможет кинуть отечество, сбежать в чужую страну, в чужие нравы, в чужой язык. Но что же делать, господи, что же делать?!
Спросил растерянно:
— Много ли верст до Модонкуля, Катя?